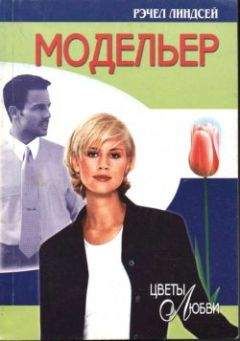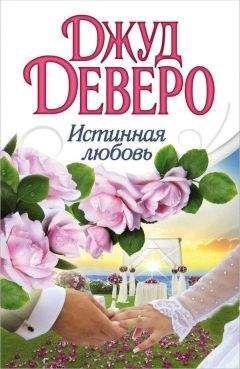Юлиан Семенов - Синдром Гучкова
Достав из ящика стола револьвер, Гучков сноровисто приставил его к груди, не в силах заставить себя забыть страшное лицо берлинского черносотенца с сальными волосами и мерзкий запах его белой, истеричной слюны — как с такой постоянной, унизительной памятью глядеть в прекрасные глаза Машеньки?! Нахмурившись, снял опухший палец с курка, отложил револьвер и подвинул к себе стопку тонкой, с крахмальной синевой, бумаги.
"Манечка, не суди меня строго, но иначе поступить я не мог. Человек имеет право на любовь тогда лишь, когда он уважает себя и верит в то, что может быть защитником той, кого почитает за свою Богом данную судьбу. Я не могу более быть тебе защитником, ибо изверился в себе, увидав себя не в зеркале (оно жалостливо), а со стороны, отрешенно и безразлично, как мы глядим на несчастных стариков, что греются в сквере, наблюдая за тем, как парижане играют в свои дурацкие, по-детски беззащитные "були".
Гучков положил перо на папье-маше, тяжело поднялся из-за большого письменного стола, сосредоточенно, словно бы выполняя чью-то волю, подошел к книжному шкафу, открыл дверку, достал книгу и, открыв страницу — сразу же попал на нужную, чудо какое-то! — понял, отчего он хочет найти именно это: когда он вернулся домой после своего первого открытого обвинительного выступления, Машенька и маленькая Веруша — нежность, доченька, любовь — ждали его в дверях; лицо Машеньки было тогда поразительной красоты, глаза сияли, ручки стиснула на груди: "Санечка, ты надежда этого несчастного народа! Ты, один ты! Ко мне телефонируют беспрерывно, поздравляют, благодарят, только ты можешь защитить этих несчастных, больше некому…"
…А говорил он тогда, собрав ЦК своей партии, вот что:
— Октябризм вышел из недр либеральной оппозиции, сложившейся вокруг местного земского самоуправления в борьбе против реакционного курса, который был принят правительством с конца шестидесятых годов… Ядро нашего "Союза 17 октября" организовалось в трудное время — ноябрь девятьсот пятого, сразу после того, как был дарован манифест о свободах и Государственной думе, в момент, как нам тогда казалось, перехода от неограниченного самодержавия к конституционному строю… Октябристы решительно отмежевались от безудержного радикализма и социалистических экспериментов, став на сторону власти. Но по мере того, как опасность переворота отходила в прошлое, начали поднимать голову те элементы, которые во все века отличались короткой памятью. В минуту грозной опасности, перед возможным возмездием за свои грехи, они вроде бы исчезли. Но теперь они вновь выползли из щелей. Где ж они? А они вновь среди дворцовой камарильи, тех темных элементов, вроде Распутина, которые и в прежнее время грелись возле гнойников русской жизни, — именно среди них рекрутирует свои ряды возрождающаяся реакция. Реакция, органически связанная с русским абсолютизмом, вновь захватила те позиции, которые, казалось, были ими утеряны. Человек, который с ними мужественно боролся и был ими свержен, Петр Столыпин, сделал меланхолическое замечание журналисту: "Ошибочно думать, что русский кабинет есть власть. Он — только отражение власти. Нужно знать всю совокупность давлений и влияний, под гнетом которых ему приходится работать…"
Официальными оплотами реакции стали правое крыло Государственного совета и организация объединенного дворянства. А это влияет на неустойчивые элементы общества, которые издавна привыкли сообразовывать свой курс с господствующим направлением. И родилось тяжкое ощущение двойственности: с одной стороны, Манифест о свободе вроде бы не отменен, обещания демократизации не взяты назад, но, с другой стороны, в недрах этой же власти усиливаются те элементы, которые никогда не скрывали своей ненависти к новому политическому строю. Попытка борьбы Столыпина против них окончилась его поражением задолго до его физической смерти… Всем памятно, как проводились выборы в четвертую Думу: правительством была устроена грандиозная фальсификация выборов… Поэтому результаты успеха реакции не замедлили сказаться: иссякло государственное творчество, власть сковал паралич, начались интриги, личные домогательства, ведомственные трения. Государственный корабль потерял курс. Не внушая к себе ни доверия, ни симпатий, власть не может внушить к себе даже страха. То злое, что она творит, она творит шарахаясь, без разума, какими-то рефлекторными судорожными постановлениями и актами… Ныне в торжественных случаях произносятся старые, всем знакомые слова, но им не верят ни сами ораторы, ни слушатели. Развал центральной власти привел к дезорганизации властей на местах. Местная администрация довела свой произвол до невероятных пределов, переходя подчас в безумное озорство. Каков же исход того кризиса, через который мы проходим? Все сходятся на одном — грядет катастрофа.
Попытка октябризма примирить общество и власть кончилась провалом. Но мы обязаны признать историческую необходимость этой попытки в такой же мере, как и отдать себе отчет: такая попытка ныне невозможна более. Мы стоим лицом к лицу не с той властью, с которой договаривались семь лет назад, в пятом году. Договор нынешней властью нарушен, если не разорван. Грядет эра реставрации, то есть ликвидации всех демократических реформ.
Сановники, озабоченные лишь собственной карьерой, готовят государственный переворот.
Ценой покорности и малодушных уступок, возможно, удастся купить отсрочку под условием не прикасаться к государственным делам, а замкнуться в повседневных мелких проблемах. Но это было бы политическим самоубийством, сопровождающимся гниением государственной власти… Мы, Государственная дума, должны взять в свои руки дело защиты русской свободы! Когда-то, в дни народного безумия, мы подняли отрезвляющий голос против эксцессов радикализма. Во дни безумия власти мы обязаны сказать этой власти серьезное слово предостережения: нашему терпению пришел конец! Нельзя оставлять монополию оппозиции за радикальными и социалистическими элементами, ибо это создаст утопию, будто власть борется именно против них, тогда как она сражается против самых разумных и умеренных требований русской демократии. Перед грядущей катастрофой именно мы, имущие, буржуазные классы, должны сделать последнюю попытку образумить власть, ибо на нас в случае потрясений обрушится первый удар. Кто явится нашим союзником в этой борьбе за демократические реформы? В пределах наших задач и средств борьбы мы примем любую помощь. Никогда еще революционные организации, добивающиеся насильственного переворота, не были так разгромлены! Но русское общество никогда еще не было так революционизировано, как сейчас, — действиями самой власти, вера в которую теряется с каждым днем! Историческая драма заключается в том, что именно мы обязаны защищать идеологию монархизма — от самого монарха, церковь — от церковной иерархии, армию — против ее вождей, авторитет правительства — от самого правительства. В стране царит состояние апатии, уныния и неверия, а отсюда — один лишь шаг к отчаянию, что есть сила громадного разрушительного действия, и да отвратит Господь эту страшную опасность от нашего отечества!
…Гучков медленно закрыл рукопись, поставил том на место, посмотрел задумчиво на письменный стол, заметив лишь один револьвер, все остальное как бы исчезло, слилось в одно зелено-серое пятно; почему такой странный цвет, подумал он; впрочем, понятно: сукно и пресс-папье; сознание вычленяет главное; револьвер — это заключительная точка. Но сначала я должен понять, отчего же то, что я прочитал сейчас, что было Откровением России, а отнюдь не Гучкова, свершилось? Отчего ко мне не прислушались? Нет пророка в отечестве своем? Или над нацией тяготеет неотвратимый, периодически повторяющийся рок? Кто противостоял мне? Почему? Какой политик оказался сильнее меня? Или обстоятельства, что всегда сильнее людей?
Сильнее его, Гучкова, были не обстоятельства, но мыши, ибо каждое общество составляют Личности, коих разительное меньшинство, и чиновные мыши, объединенные в силу, разъедаемую изнутри постоянными противоречиями, но тем не менее мощные своей направленной массой.
…Он вернулся к столу, бессильно обвалился в кресло, сидел несколько мгновений недвижно, а потом, превозмогая тяжесть в руке, потянулся к револьверу…
2
Степан Петрович Белецкий, служивший незадолго до февральского переворота товарищем министра внутренних дел, мучительно долго раздумывал, прежде чем принять кардинальное решение: на кого ставить в каждодневной борьбе за жизнь? А ставок было две всего лишь: либо Распутин, либо Гучков.
Будучи кадровым жандармом, Белецкий знал про всех мало-мальски заметных русских все, абсолютно все.
…Не прошло и двух лет после того, как он прочел донесение агента "Кардин" — критически мыслящий журналист, внедренный им в среду левых октябристов, — в котором тот изложил содержание скандальной, но до ужаса правдивой речи лидера октябристов Гучкова, после того как речь была доложена в сферах и поступило высочайшее повеление на постоянное, особо пристальное наблюдение за "младотурецким мерзавцем, которого вешать надобно, а не в Думу пускать" (говорила так не какая-то дама, а государыня), — грянула война, и все, что предрекал Гучков, сделалось трагической явью.