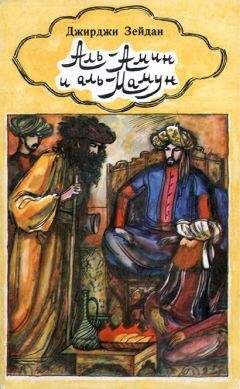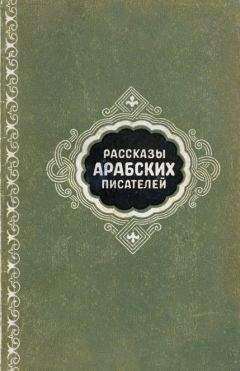Евгений Салиас - Француз
И вечно Хренов хлопотал, уходил из дому с шести часов утра, ворочался к обеду и, отдохнув часок на постели, опять исчезал до сумерек.
Иногда и вечером не бывало его дома. Но где пропадал хозяин, не было известно ни его жене, Марье Антоновне, ни детям. Даже старик Евграф Прокофьич, вечно лежавший в постели от всяких болестей, тоже не знал ничего.
Жена Ермолая Прокофьевича, очень дородная и ленивая пятидесятилетняя женщина, не любопытствовала узнать, что творит благоверный.
У нее были свои особые три утехи в жизни: самоварчик, кот Васька и карты. Купчиха проводила весь день за чаепитием со своими приятельницами и любимицами, которых было много. В числе, однако, разных гостей, ее навещавших, были и «шатуньи». Так называл Хренов некоторых женщин, которых заставал у жены. Тут были, помимо купчих и мещанок, монахини, причетницы[6], просвирни[7], знахарки, гадалки, дворянские приживалки попроще, одна девка-арапка одной княгини московской и, наконец, одна монастырская приживалка из-под Симонова монастыря — Соломонидушка. Впрочем, эту последнюю сам Хренов удостаивал приветствия, когда находил у жены, так как семидесятилетняя страшно высокая и худая старуха была очень известна. Для одних она была святой женщиной, для других — блаженной и юродивой.
В этой разношерстной компании, угощая ее чаем, и проводила весь свой день Марья Антоновна.
Когда днем не бывало никого, она беседовала со своим любимцем, темно-серым котом по имени Салтан. Вечером же неизменно бывали три-четыре гостьи и шла игра в карты на грецкие орехи и шепталу[8].
У сына Антона дела было много, на нем лежала вся ответственность по торговле и даже порядки и хозяйство в доме, с которым не могла справиться его жена и по молодости, и по малому разуму.
Две дочери Хреновых, Софья и Ольга, были баловнями отца, ничего не делали, ничем не занимались, только озабочивались нарядами и хождением в гости.
Обе девушки были чрезвычайно красивы собой, в особенности Софья. Они были почти всем известны в Москве своим отчасти не русским, а будто цыганским типом.
Обе стройные и высокие, смуглые, черноволосые и черноокие и обе равно смелые во всем, равно гордые своей красотой и мечтающие замужеством выйти из лавочниц.
В кого уродились обе девушки — было удивительно. Хренов был скорее дурен собой: маленький, толстый, с брюшком, русый и курносый; и только энергичный человек — не по телосложению, и умный — конечно, не по взгляду подслеповатых и небольших серых глаз. Сама Хренова тоже никогда красивой и умной не была. И только волосы свои черные передала дочерям.
Ее портретом был сын, некрасивый и не особенно острый Антон.
Между тем две красавицы девицы были не выродками, не приемышами, найденышами или подкидышами, как называл их шутя Хренов, когда ласкал своих любимиц.
Он один знал и понимал, откуда у него такие дочери, на которых прохожие заглядываются. Сказать это жене — она обидится, сказать знакомым — не поймут.
Дело в том, что Марья Антоновна, его жена, была дочерью ключницы из дома графа Разумовского. Эта ключница езжала с графом и в заграничные пределы, замужем никогда не была, а между тем у нее явилась вдруг дочь… якобы приемная.
И когда Хренов женился на Маше, русской девице и орлицом, и повадкой, то узнал, что отцом Маши был камердинер графа, чернобровый красавец, ни слова не говоривший по-русски, вывезенный из чужих краев, обещавший жениться на ключнице и затем исчезнувший из дома графа и из Москвы.
Кто он был, какой нации — Хренову не удалось разузнать от своей тещи, не любившей про него вспоминать. Жена его обижалась, когда Хренов заговаривал об ее отце, тальянце или гишпанце. Случалось Марье Антоновне иногда плакать по целому дню, когда муж напоминал, что она неведомо от какого нехристя родилась.
Но про себя Хренов думал и говорил:
— И слава Богу, что так… Оттуда и красавицы мои Софьюшка и Олюшка. Они обе в незнаемого дедушку своего… Это мне и сам его превосходительство генерал Глебов разъяснил, а он человек начитанный и умный. Да и я смекаю, что это так на свете должно быть.
Вернувшись от миллионера, Хренов тотчас залег спать, ни слова не сказав ни о чем ни жене, ни детям.
«Утро вечера мудренее! — решил он. — Да и розог пошлю купить и прикажу в сенях разложить… Их вид свое действие будет иметь. Обещаюсь даже всех перепороть от самой Марьи Антоновны и до батрака Авдея, не токмо строптивую дочь. Шутка ли — потерять бешеные тысячи прихотника Живова?! А он не обманет. Он на эти турусы[9] мастер. Про него и не этакое рассказывают. Он в печке сжег тридцать тысяч. Сказывают, что сидел да швырял и приговаривал: «Вот сжечь сожгу, а тебе за подряд не заплачу. Иди, жалуйся! Я судей закуплю. Сто тысяч не пожалею».
И, рассказывая себе этот анекдот про богача, Хренов сладко заснул, а наутро поднялся решительный, суровый и кликнул всех чад, домочадцев и прислугу в большую столовую.
Здесь Ермолай Прокофьевич объяснил кратко, что решил бесповоротно и неотложно выдать дочь замуж за комиссариатского провинциального секретаря Макара Тихоновича Тихонова. Его на то отцова воля. Если же кто станет ему перечить, то он всякого и всякую сопротивляющихся ему начнет сечь. И будет длиться в доме всеобщая порка до тех пор, пока главная виновница не согласится на брак и не избавит всех от похмелья в чужом пиру.
Все ахнули, оторопели и стали истуканами, а Софья вскрикнула и повалилась без чувств на диван.
— Ну ладно! Я по делам, — отозвался Хренов. — А вы тут рассудите сообща. Даю сроку до завтрашнего утра. А ты, Антон, все-таки сегодня распорядись, прикажи на рубль розог купить.
Хотя и велики были деньги, которые теперь обещал бросить богач Живов на свою прихоть, но Хренов, быть может, в иное время и не согласился бы продать свою красавицу дочь. Он был тоже честолюбив и тоже мечтал о браке дочерей с дворянами или с офицерами. «Бывали примеры!»
Но дело было в том, что аферист-купец в это время тревожился из-за одного дела, которое лезло в руки.
Его брат родной Евграф Хренов, фабрикант, хотел уйти в монастырь — на покой от торговых дел — и предлагал брату Ермолаю купить у него его фабрику с домом. Просто подарить он не хотел, намереваясь все состояние пожертвовать в монастырь. Зато он отдавал брату за полцены, за сорок тысяч, да еще в рассрочку.
Таких денег у Ермолая Прокофьевича все-таки не было, а занять, конечно, было трудно, да и не выгодно.
И для жадного на наживу Хренова этот случай обогатиться и невозможность воспользоваться им были якобы петлей на шее.
«Как выбраться из этой петли?» — думал он и днем и ночью.
И вдруг страшный богач, причудник и прихотник дарит ему двадцать тысяч… Стало быть, фабрика его… А мечтаемое дворянство красавицы дочери, конечно, двадцать тысяч не стоит.
— Буду фабрикантом, — говорил он сам себе, — разживусь. А разживусь — большущее приданое дочерям дам. А на чистоган полезут и советники, и полковники.
IV
А причудник и прихотник был не простой человек.
Кто в Москве не знал потомственного почетного гражданина Ивана Семеновича Живова? И начальство московское, и дворянство, и последний бедняк, нищий полубродяга. Живов не один был с миллионами, были и другие страшнейшие богачи в Москве. Но ни один из них не был так «знаем и славен», как Живов, да кроме того — еще любим и уважаем.
Правда, звали его прихотником, иные подсмеивались над его странными выходками, иные злые языки говорили, что богач с придурью, с толчком, другие — поумнее и подобрее — ценили или любили Живова, а те, которых он облагодетельствовал — а таких было пропасть, — боготворили Ивана Семеновича.
Живов явился в Москву в последние годы царствования императрицы Елизаветы — двадцатилетним мальчиком; пришел он в столицу из Владимира пешком, босоногий, с мешком за плечами, где были лапти, онучи, кой-какая мелочь, образ Николая Угодника, пустая кубышка, краюха черного хлеба и семнадцать копеек медяками.
Он тотчас же нанялся рабочим на суконную фабрику на берегу Москвы-реки, близ Ленивки.
Фабрика эта, хозяин ее и все рабочие на ней мало были подходящими к прозвищу улицы. Суконный двор славился в Москве порядками, трезвым и усердным народом, но зато и заработки были большие. Ленивцев тотчас же выгоняли, а шустрым в работе увеличивали жалованье по мере их сил, способностей и усердия. Бывали случаи, что парень, начав работать за рубль в месяц, в год доходил до восьми рублей в месяц.
Парень Иван Живов, умный, степенный, горячий в работе и со смекалкой, попал как раз куда ему и следовало попасть, очутился как рыба в воде, а через год — как сыр в масле. Через три года он был мастером — заведовал целым отделением — и был любим самим хозяином.
Спустя лет пятнадцать, когда в Москве разразилась чума и началась тревога на Суконном дворе и на Ленивке, а закрытие фабрики и роспуск рабочих по городу заразили весь город, Живов тоже ушел… Но на счастье… Когда чума кончилась, у него было свое заведение — лавка. С этого времени и до конца столетия — до царствования императора Павла — состояние умного и энергичного Живова росло не просто быстро, а сказочно… Но чем только он не занимался!.. У него все заводилось, велось, процветало… Теперь у него была своя суконная фабрика, громадный винный склад, огромные лабазы. Он торговал и сукнами, и хлебом, и вином, и лесом. Жизнь промчалась быстро… Нажитые миллионы не принесли, однако, счастья. Напротив того… По ясному взгляду красивых голубых глаз Живова видно было, как сложилось его существование… Тихой, затаенной грустью светился его взор, старик на восьмом десятке лет был совершенно одинок, жил бобылем на свете.