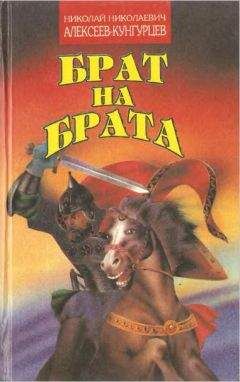Петр Тодоровский - Вспоминай – не вспоминай
Только прошли проходную, случайно поворачиваю голову — глазам своим не верю: навстречу нам по тротуару идет ОНА. Продолжаю разевать рот, глотая слова песни: «…францу… французу отдана…», судорожно соображаю, что можно предпринять в такой ситуации. ОНА идет в противоположном направлении. Вот ОНА поравнялась с нами и теперь начинает удаляться. Удаляется, удаляется. Со свернутой шеей, нарушая мыслимые и немыслимые уставные положения, выбегаю из строя.
— Товарищ лейтенант, — с вытаращенными глазами обращаюсь к Володе Доброву. — Мне срочно нужно до ветру!
Комвзвода недоверчиво смотрит на меня.
— В штаны не наложил?
— Никак нет!
— Ну, беги. Да поскорей. Догонишь?
— Ага!
Бегу и думаю: хоть бы не села в трамвай. Тогда пиши пропало. Делаю вид, что сильно запыхался, подбегаю, тяжело дышу. Перегородил ЕЙ дорогу. Молчу. ОНА удивлена, но смотрит доброжелательно.
— Я… вы, наверное, не помните меня… Ну, вы мне объяснили, хочу вас поблагодарить…
— За что? — усмехается ОНА. Видно, чувствует подвох. И две ямочки появляются у нее на щеках.
— Как же! Вы объяснили мне, как доехать до Сенного рынка. Без ВАС… Я ведь тогда без увольнительной… Тотчас попался…
— Куда?
— Это потом. Ну, вспомнили? И еще сказали, где находится почтовое отделение…
— Да, большое одолжение! — и смеется.
— У меня так мало времени… Если б вы только знали…
— Я вас не задерживаю, — говорит ОНА.
— А я вас так запомнил, что никак забыть не могу.
— Даже так?!
— Где мне вас найти?
— Зачем?
— Вы же понимаете, о чем я…
— Догадываюсь, — и снова смеется. Ей-богу, от ее этой улыбки с ямочками на щеках можно подохнуть.
— Так как же? — жалкий лепет. — Давайте завтра, там, где я вас тогда впервые встретил… На горбатой улочке. Помните? Встретимся, а? Мне нужно сказать вам что-то важное, а?
— А сейчас нельзя? — ОНА, конечно, все понимает, но душу мою выворачивает наизнанку.
— Можно, только времени никакого нету. — И протягиваю руку: — Я — Петя.
Тут ОНА расхохоталась, видно, пожалела меня, стало меня жалко, так просительны были мои ужимки.
— Яна, — и приветливо протянула мне свою руку.
Я схватил ее ладонь в вязаной перчатке.
— Спасибо, — говорю. — Значит, договорились? Не обманете? — ОНА отрицательно покачала головой. Точно. ОНА просто пожалела меня. — Спасибо! Я вырвался из строя…
— Вам за это ничего не будет?
— Значит, договорились? -Да.
И я рванул догонять свой взвод. Бегу и то и дело оглядываюсь. Ее темная фигурка в лучах утреннего солнца становится все меньше и меньше, пока окончательно не растворяется в белом мареве.
Я бежал переполненный радостью и благодарностью ЕЙ за то, что согласилась встретиться, и Володе Доброву за его доброту.
Когда я, наконец, догнал взвод, Доб-ров спросил меня:
— Донес? Молодец!
— Спасибо! — радостно гаркнул я и встал в строй.
Высокого роста, стройный, плоский мужчина сорока лет, мрачен, наблюдает, как проходят занятия по строевой подготовке. Командир роты капитан Ли-ховол. От него за все три часа занятий не услышишь и трех слов. Только изредка указательным пальцем подзывает своих подчиненных, командиров взводов, и без лишних слов:
— Плохо тянут носок. Подольше держите паузу, когда нога на весу. Ясно?
И уже до конца занятий ни слова. Пуговицы на шинели горят, сапоги блестят, спина прямая, как доска, выражение лица — постоянное недовольство, нетерпелив. Такое ощущение, что ждет не дождется, когда все это кончится.
Интересно, чем он занимается дома?
Лиховол решительно толкает входную дверь и, не раздеваясь, садится за стол у окна, опускает свой тяжелый подбородок на ладони, упирается взглядом в одну точку, словно в ней и находится опора всей его жизни.
Жена не жена, любовница не любовница — прекрасная русская женщина — стоит рядом, готовая исполнить любой его каприз, желание, приказание. Она садится напротив, ее добрые глаза, добрые мягкие руки, ее добрая душа обращены к мужчине. Она так долго смотрит на Лиховола, что вот и у него на лице дрогнуло одно веко.
— Ну, рассказывай, что надумал?
Не меняя положения, Лиховол говорит:
— Мне все это… все эти: «Левое плечо вперед!», «Кругом!», «Выше ножку!», «Тяни носок!» На-до-е-ло!
— Снова рвешься в пекло?!
— Рвусь.
— После блокады, тяжелого ранения… снова туда?!
Александр Александрович смотрит на женщину, на ее прекрасный овал лица, на теплые ласковые глаза, на все лицо, обрамленное прядями светло-русых волос, своими огромными ладонями берет все это, долго всматривается -ему надо запомнить черты эти навсегда, навсегда…
— Решил окончательно?
— Бесповоротно.
— Я с тобой.
— Нет. Останешься растить сына. Женщина смеется. Подсовывает ему
граненый стакан водки.
— Какого сына? На, выпей!
— Нет, — Лиховол отставляет стакан. Достает из планшета официальную бумагу с печатями.
— Это тебе продовольственный аттестат. С ним продержишься до моего возвращения.
— Подумай, Саша. Мы не оформлены…
— Мужчина уходит на фронт, оставляет любимой женщине продовольственный аттестат — законное дело! — его кулак кувалдой опускается на стол. — Сына запишешь на мое имя.
Александр и Мария, обнаженные, стоят под душем; прежде чем сотворить сына, необходимо смыть с себя все прошлое, греховное, дать будущему сыну одну чистоту души и тела. Мужчина целует женщину: ее нос, глаза, щеки, губы, мочки ушей, целует юную шею, ее крепкие груди и всю округлость ее живота, где будет расти сын.
Длинные пальцы Марии ласкают его голову, перебирают волосы, массируют плечи… Вода непрерывным потоком омывает мужчину и женщину. Они стоят, вплотную прижавшись друг к другу в трепетном ожидании…
Они трудятся вместе, как одно целое. Нет, это не работа — радостное наслаждение: лица озарены счастьем, проникают друг в друга.
— Саша-а! — стонет Мария и целует, целует всего его, обвивает его могучее тело ласковыми руками, помогает, отдается с величайшей радостью.
— Родная! — шепчут губы Александра.
— Родишь мне сына…
— Рожу тебе сына-а… — задыхаясь, отвечает Мария. И уже в изнеможении:
— Копия ты!..
— Нет, копия — ты!
— Нет, ты…
Опускаются в небытие, теряя сознание…
У изголовья догорает свеча. Ни дня, ни ночи. Все смешалось…
— Мой ангел…
…Рассвет.
В одних кальсонах Лиховол большим и указательным пальцами подносит ко рту полный, еще с вечера налитый стакан водки, делает выдох и медленно выливает содержимое прямо в горло. Лицо просветляется, морщины разглаживаются и, уже улыбаясь, произносит:
— Хорошо-то как!
Встает во весь свой исполинский рост; крепкое, мускулистое тело — красивый русский мужчина. Какое-то время молча смотрит прямо перед собой и вдруг поет:
— Пусть ярость благородная
вскипает, как волна,
Идет война народная,
священная война…
Женщина обнимает капитана, плачет у него на груди.
— А если, не дай Бог, вас это… — она боится выговорить страшное слово.
Лиховол залпом выпивает стакан водки. Привлекает к себе прекрасную женщину:
— Повторяй за мной! — командует он. И оба вместе поют:
— Смелого пуля боится,
Смелого смерть не берет!
Задыхаюсь. Еще секунда, и мои глаза вылезут из орбит. Лицо залито слезами, из носа поток соплей… Никак не могу соединить коробку с активизированным углем непосредственно с маской на лице.
Начхим, майор Педик (тогда мы не знали, что означает такая фамилия), сидит в противогазе, дает команду:
— Осколок пробил гофрированную трубку. Ваши действия!
В считанные секунды надо отвинтить гофрированную трубку от коробки и соединить коробку напрямую с маской.
Раз в неделю проводится этот ненавистный нам химдень. Ранним утром, после команды «Подъем!» следует: «Надеть противогазы!» И весь день, от подъема до отбоя, в противогазах: зарядка, умывание, в столовой — в противогазах. Да-да! Заходим в столовую:
«Снять противогазы!» Поели: «Надеть противогазы!» Правда, в этот день была возможность отоспаться, когда занятия проходили в помещении по теории баллистики или уроки по тактической подготовке на макете. Нахукаешь на стекла противогаза, они запотевают, через запотевшие стекла начхим не видит твоих глаз, и ты спишь.
— Иванов! — неожиданно прерывает свою монотонную лекцию майор. Сережа вскакивает, не понимая, где он, беспомощно озирается. — О чем я сейчас рассказывал? — спрашивает майор.
Сергей молчит. Он ничего не слышал. Он спал.
Всеобщий хохот.
Но в этой закупоренной землянке, наполненной настоящим газом малой концентрации, выжить невозможно. Сколько можно не дышать? Тридцать секунд, ну, минуту, а резьба коробки никак не входит в отверстие маски, и ты, как рыба, выброшенная на берег, наконец разеваешь рот и получаешь порцию газа. Дикий кашель тут же раздирает глотку, руки дрожат, и тебя, полудыхан-ного, вытаскивают из землянки. А начхиму хоть бы что! Сидит в противогазе и наслаждается, видя, как задыхаются курсантики. После очередных занятий Юра Никитин неделю отвалялся в санчасти. Мы поняли: надо начхима проучить.