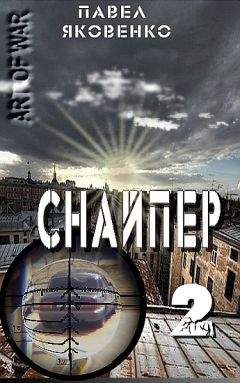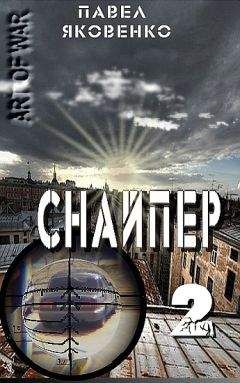Андрей Иванов - Харбинские мотыльки
Тополев первым делом попросил Солодова ввести его во все существующие общества Ревеля. Обошли всех, кого знал поручик, в том числе и к оккультистам заглянули, всюду получили немного денег в долг. Тополев был недоволен: ему казалось, что кого-то упустили, он чувствовал, что были еще какие-то организации…
— Чувствую, что это далеко не всё, поручик, вы что-нибудь да упустили, признайтесь!
Солодов кашлял, сопел в усы:
— Может быть, кого-то упустил из виду…
Тополева не устраивала неопределенность; он хотел видеть город насквозь.
— Так, чтоб он был у меня как на ладони, — говорил он, держа яблоко, — понимаете, что я имею в виду, поручик? Чтоб всё знать про всех! Каждое подгнившее местечко. Каждую ссадину, обиду, измену… Кто куда ходит, с кем спит, с кем шушукается, какие игры затевает… Только так нужно жить! А не в потемках! Ничего, ничего, я разворошу это осиное гнездо.
Он обновил свой гардероб, обзавелся белыми шелковыми перчатками, туфлями и ввел в обиход манеру нюхать кокаин.
— Вам не хватает жизненных сил, поручик. Кокаин придаст вам живости. А то посмотреть на вас, так вы сущий старик, хоть панихиду заказывай. Вам пятидесяти нет… или уже есть пятьдесят, а?
— Сорок три, — отвечал Солодов, прочищая горло.
— И такая развалина! Что с людьми война делает! — шлепал перчатками Тополев.
— Мда…
— Нюхайте кокаин, поручик. Это бодрит.
— Да, взбодриться не помешает, — отвечал Солодов.
Каждый день они выходили пройтись на Глиняную, затем шли к «Русалке», прогуливались у «Петроградской» в Екатеринента-ле. Тополев кому-нибудь подмигивал, манерно здоровался с дамами, всем улыбался, сверкал глазами и каждого встречного приглашал «к себе». С глазу на глаз он поругивал Солодова:
— Поручик, почему вы так грязно живете? Что это за место такое? Даже мостовой нет, одна грязь кругом.
— Зато дешево, — отвечал Солодов, — две комнаты и хозяин — немец — спокойный мужчина, с пониманием относится, по-русски говорит.
— Ладно, ладно, только места как-то маловато, салона не откроешь, разве что клуб…
— Клуб? Какой клуб?
— Карточный, какой. В винт играете?
— Еще бы!
— Ну вот…
К ним стали ходить. Подпитываясь кокаином и шампанским, Тополев бегал по Ревелю, посещал важных лиц города, вступал в различные общества. Первым делом объявил себя ветераном-инвалидом, устроил так, чтоб без очереди ему выписали из шведского штаба 300 крон, поставили на небольшой пансион от императрицы Марии Федоровны. Помимо этого, сколько-то марок в месяц он получал в течение года из «Союза верных». И все равно был сильно разочарован.
— Это ничто! — Брезгливо фыркал и взмахивал перчаткой. — За пролитую кровь — такая жалкая подачка. Вот она, имперская благодарность! Этого даже на шампанское не хватит. А у нас целый клуб! Все ходят, и всем приходится наливать, потому что не просто так ходят — хотят угощаться. Клуб без этого существовать никак не может.
Кроме этого Тополев хотел обедать в «Концерте», а ужинать в Cafe de Paris, откуда он обыкновенно являлся за полночь.
— Что делать? — вздохнул поручик.
— Как это что? — удивился Тополев. — Думать, где достать деньги. — Потребовал, чтобы поручик составил список всех русских, которых тот знал. — Я уверен, что кто-то где-то сидит на мягких подушках и перебирает драгоценности, а мы с вами подачками перебиваемся.
В процессе составления списка выяснилось, что было еще очень много организаций, обществ и кружков, о которых Солодов не имел ни малейшего представления.
— Это непростительная безалаберность, поручик. Вы совершенно не интересуетесь происходящим в мире. Начнется война, вы и не заметите.
— Ну, нет, войну-то я замечу.
— Не время спорить, поручик. Я хочу вбить вам в голову одну вещь. Если есть какое-то общество, то нужно все о нем знать. Поймите, даже самые нелепые на первый взгляд организации могут быть полезны для нас. Кстати, мне удалось выведать у проклятого Терниковско-го, что помимо открытых собраний, оказывается, у них проводят еще и закрытые, на которые нас с вами почему-то не приглашают. Как вам это нравится, поручик?! Quelle honte![3] Нами манкировали, а вам и невдомек! Вы и представить себе не можете, какой скандал я закатил Терниковскому. Теперь мы приглашены к генералу Игнатьеву. Приведите себя в порядок, и побольше блеску в глазах. Вы должны производить впечатление человека решительного, готового на всё, черт возьми!
Он быстро добился права посещать закрытые собрания, требовал, чтоб ему присылали извещения и держали в курсе всех событий и переговоров, которые, как ему казалось, совершались у него за спиной.
— Отсюда все недоразумения и несогласованность действий, что и привело в конечном счете к провалу Белого движения!
Он произносил яркие речи, ничем не отличался от прочих монархистов, даже кое в чем превзошел их: он требовал действия, и как можно более агрессивного.
— Постоянные кровавые террористические акции на территории большевиков могут привести к подрыву доверия власти, а внедрение агентов и отправка пропагандистской литературы должны в конечном счете вызвать в народе волну негодования, чем и надлежит воспользоваться!
Предлагал сбрасывать бомбы на Петроград или приграничные городки, взрывать мосты…
Он поразил всех. Солодов смотрел на него с открытом ртом; только некоторое время спустя, когда они вдвоем усаживались за кокаин, у Солодова начиналось в голове прояснение, поручик прочищал горло и спрашивал:
— Позвольте задать вопрос, ротмистр.
— Валяйте!
— Как, собственно, вы собираетесь осуществить сие…?
— Сие что?
— Бомбардировку Петербурга. Кто полетит на аэроплане?
— Ах, вот вы о чем! Господи, поручик, главное получить деньги на осуществление, а так как масштаб задуманного до дерзости фееричен, думаю, никто не станет с нас строго спрашивать, если что-нибудь где-нибудь пойдет не так. Нюхайте и запоминайте! Нас финансируют за веру и идеи, а не за осуществление задуманного. Поэтому советую вам как можно больше демонстрировать веру и рожать идеи, и не задавать нелепых вопросов!
Тополев предложил организовать партизанский отряд, и его многие поддержали, кое-кто полез в закрома…
Всего в спектакле было задействовано пять человек. У каждого три роли, не меньше.
В антракте Лева смеялся:
— Расскажу Тополеву. Жаль, что он не пошел. Надо, чтоб он увидел себя. Ротмистр Василиск. Сделал из него черт знает кого! Но доля правды есть. Нет, я не имею в виду ограбление, я о другом… Интересно, а будут еще давать или на этом все? Ты не знаешь? Тебя, конечно, он переврал. Чацкий! Сумасшедший художник. Переврал. Ты не такой замухрышка. Терниковский хотел, чтоб я написал рецензию на это. Карикатурный человек! О чем тут писать? О чем?
Борис ушел после третьего отделения. Пошел к Трюде. Нарвал колокольчиков в парке.
Отец Трюде был слепым. У него были саваны на роговице. Они жили вдвоем в холодной тесной квартире на улице Кирику. В тени Домской церкви. Почти все окна на Кирику были задраены ставнями. Единственный фонарь у прохода под арку освещал трещины в стене. Под ним в летние дни плели свои паутины пауки. Все на этой улице питались только его светом. Борис ни разу не видел, чтоб окна в домах горели изнутри, они были черные, завешенные плотными шторами. Фонарь был похож на чугунную колючку, висел криво у самого входа в коварный проход, будто заманивая. Борис всегда спотыкался, каждый раз о новый булыжник. Отцу Трюде свет был не нужен; он давно забыл, что это такое. К нему приходили такие же — древние немцы, иногда русские старухи в истлевших кружевах, пергаментные, восковые. Они сидели, как сектанты, в сумраке мусолили имена, события прошлого века, — говорили тихо, в час по щепотке слов, неторопливо плели паутину. «Так и надо, — думал Борис, — именно так о прошлом и нужно говорить: чтобы никто ничего не понимал». Расползались, шаркая и охая. Трюде шла укладывать отца, Борис делал вид, что уходит, топтался в коридоре, снимал ботинки, за усы относил их в ее комнату. Ему нравилось, как не говоря ни слова она его впускала, покорно стелила постель, просила отвернуться, раздевалась. Она соглашалась только тогда, когда за тонкой, как ширма, стеной начинал похрапывать отец и фонарь гас. Ребров быстро привык к этим правилам, поэтому не торопился. Вот загорятся фонари, пойду. Гулял по парку, рвал колокольчики. Утром так же, с ботинками в руках, он выскальзывал за дверь, надевал их и выходил на улицу Кирику. С головной болью и резью в глазах плелся узенькими улочками вниз. Булыжники под ногами были влажные от росы.
В этот раз не пустила. Не разобрал почему. Шептала и отводила глаза. Из глубины квартиры слышался голос отца:
— Wer ist da? Trude? Wer ist da?
— Das ist Hannah, Vater, — ответила она.