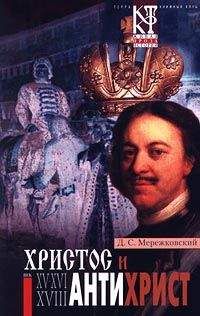Дзахо Гатуев - Зелимхан
Мягким юмором светится письмо девушки Айши из города, куда она уехала учиться: «…Яа учица читат писат многа подруга учица читат писат Прулитари всех стран содиняйс Совецка власть рабочих и кри-стан кирепко целувайю Ханисат, Замират, Мадин так-жо Мариам…» Эта весточка в родной аул, где почти нет грамотных по-русски, вселяет уверенность, что луч света уже проник через гранитные скалы и что вожаками «народа гагааульского» станут Айша и ее друзья, а время кадиев, мулл, Кашкара и Баки кончилось.
От трагического выстрела Лечи-Магомы в братаДжамала до финальной картины, когда развенчанная Баки грозит народу обрубками рук, — вся повесть читается, как поэма в прозе. Картины впечатляющие, словно изображенные на кованом серебре тонким резцом искусного кубачинского златокузнеца.
Такое впечатление оставляет «Гага-аул» Дзахо Гатуева, вдохновенного певца гор.
* * *Константин Алексеевич Гатуев погиб в июне 1938 года в результате репрессий, допущенных в период культа Сталина. Жизнь Дзахо трагически оборвалась в самом расцвете творческих сил писателя.
В 1936 году Гатуев писал по поводу смерти своего друга Сергея Мироновича Кирова: «И когда в бывшем Владикавказе плакали репродукторы, хотелось мгновениями сунуть руки в их широкие горла, задушить их, заставить молчать. Потому что жить да жить должен был Мироныч»
Знакомясь сегодня с кипучей жизнью и замечательным наследием Дзахо Гатуева, хочется эти слова обратить к нему самому:
— Жить бы да жить тебе, дорогой Дзахо!..
Б. Шелепов.
Зелимхан
Зелимхан был горец как горец, со всеми чертами настоящего горца, настоящего мужчины. Родина его. — Харачой. В дупле российского империализма родился Зелимхан. Первые впечатления детства у Зелимхана те же, что у каждого чеченца: Шамиль, время шариата. И горы. Дегалар Чермой-лам. Гиз-гин-лам.
Родословная Зелимхана несложна, если начать ее с Бехо.
Бехо родил двух сыновей. Сыновья родили пятерых. И четырех девушек: Хайкяху, Эзыху, Дзеди и Зазубику. И во всем селении Бехо единственный был седобородым, таким, как века, что выпирают неотесанными плитами на харачоевском кладбище.
У харачоевцев овцы, у харачоевцев шерсть, сыр, масло. Недавно еще харачоевцы сами ткали себе сукно, сами отливали пули для длинностволых кремневых ружей — крымских, с которыми ходили в ичкерийские леса на зверя и за ичкерийские леса на людей. Недавно еще дагестанские кузнецы переваливали из Ботлиха с грузом топоров, серпов, кос и обменивали его на харачоевскую кукурузу. Иногда привозили харачоевским невестам яркие персидские ткани.
Товар оборачивался из ущелья в ущелье, переваливая высокие кряжи гор, перебрасывай жердяные мостики через бурные реки.
Но когда на полки Веденских лавок в семи верстах, в крепости, легли тяжелые штуки русского сукна, русского ситца, разрисованного, как персидский шелк, а на гвоздях повисли схваченные проволокой подковы, косы, серпы, которые дешевле и крепче тех, что привозили вьюком хриплые дагестанцы, тогда харачоевцы оказались втянутыми в сферу мирового хозяйства. Легче нарубить в лесу тяжелые плахи дров, продать их и купить сукно в городской лавке, чем самим снимать с овец шерсть и перерабатывать ее в черкески. Легче продать шерсть и купить ситец, подковы, гвозди.
Так маленький Харачой, затерявшийся в глубине ущелий, втягивался в мировое хозяйство. Может быть, это втягивание прошло бы незаметно и безболезненно. Может быть, Харачой приобщился бы к культуре через свой естественный рост.
Но эволюция происходит во времени. А Харачой шел в культуру через крепостные ворота Ведено.
Харачой был гололоб, был он азиат, был покоренный. Соединив в себе эти три качества, он выпускался в крепостные ворота не только мимо часовых, но и сквозь стройную систему оскорблений и унижений, придуманную царскими сатрапами. Мало того, чем он уже был в глазах носителей всяческих погон. Его заставляли в воротах снимать кинжал, понукали непонятливого ядреным матом, прикладами, не считаясь ни с возрастом, ни с полом. Часто начальнику казались подозрительными женщины. Тогда он обыскивал их, т. е. лапал, лапал тех, кто всем строем жизни был убежден, что всякое прикосновение чужого мужчины — оскорбление, если не позор.
За прилавками магазинов сидели уверенные в твердости крепостных стен и солдатских штыков купцы. Тоже чужие. В харачоевцах купцов раздражало все: подвох, желание дешевле купить, неумение говорить по-русски.
Если бы можно, харачоевцы, чтобы не видеть и не слышать, вовсе не ходили бы в крепость. Но законы капиталистического развития были сильнее харачоевцев, мусульманства, гор. Всего того, что окружало харачоевцев, к чему харачоевцы привыкли.
И замыкаясь, ища спасения в кругу тех понятий и представлений, в которых их застало время Шамиля, время шариата, они новый мир врагов, ворвавшийся в лесистые ущелья, терпели только как новую, суровую необходимость.
Харачой знал, что всякое зло, всякое насилие имеют предел, установленный адатом и шариатом, что адат и шариат — это дело и слово правды и справедливости в тех формах, которые установил родовой строй. А царизм принес свои формы, которые были как раз противоположны харачоевским.
В имущественных отношениях харачоевцы считали, что око идет за око, зуб за зуб. Имущественными отношениями определялись общественные. Человек равен определенной рабочей силе. Как рабочая сила расценивается в случаях покушения на его жизнь, на часть его тела. И наоборот: имущественный ущерб может быть возмещен соответствующим ущербом телу виновника. Такая экономика пронизывала весь харачоевский строй.
Царскому чиновнику задумалось изменить харачоевские понятия и представления. И он выделил из среды харачоевцев группу собственников, «лучших людей», для заполнения ими первичных административных должностей-старшин и милиционеров. Группа была выделена врагом. Выделившись, она оказалась во вражеском стане. И вне внутриродовых харачоевских отношений. Основное ядро харачоевцев, остававшееся первобытным, замкнулось в еще более тесных рамках рода. И в религиозном сектантстве, обеспечивающем незыблемость харачоевских основ. По инстинкту самосохранения. Столкнулись два мира. Все, что делал царизм, что, по мысли его, было справедливо, противоречило харачоевским представлениям о справедливости.
Отобрание земли в пользу казаков и собственников, выросших из измены народному делу борьбы. Насилия и оскорбления. Таскания за бороду почетных носителей фамильного авторитета. Насмешки по поводу магометовых способов проявления религиозных чувств. По поводу происхождения. Женского костюма с его шальварами до самых пят… Разве мало было поводов для насмешек? Были они у чиновника системой, а наивный харачоевец к нему же шел искать защиты. От обид. И не находил.
Тогда Харачой решил своими силами восстанавливать справедливость. Свою справедливость. По отношению к себе, по крайней мере.
Зелимхан работал на поле. Пас отцовские стада. Ходил в крепость. Был период, когда Зелимхан даже зачастил в крепость. Стал привычным для обитателей ее чеченцем, скоро узнанным и по имени.
Как чеченец Зелимхан не мог жить в крепостной слободе. Правом владеть недвижимостью в стенах крепости пользовались только офицерские чины. Чеченские офицерские чины. А из русских все, кто хотел. И мог. Зелимхан не мог не только потому, что был чеченцем.
И каждый день Зелимхан отсчитывал версты в крепость, которая старалась жить по европейскому образцу. Карты. Клуб. Ресторан. В нем оркестр. Пьяные офицеры. Проституирующие жены. Чеченцы, выбившиеся на мутную поверхность новой жизни, старалась не отставать от европейских образцов. От европейского темпа.
Другие, равные Зелимхану, испытывали равную с ним судьбу обид и угнетений.
И вот Зелимхан ушел. Скрылся из глаз обитающих в крепости. На месяц. На два. На три. Он появился вновь, чтобы встретить однажды на дороге из крепости в Грозный Веденского купца Носова.
— Стой!
Носов остановился. Давно не видел старого знакомого Зелимхана. А Зелимхан:
— Давай деньги!
— Кунак! Зелимхан! Ты меня? Перестань. Нехорошо так с кунаками делать.
Носов бил наверняка: знал слабое место чеченца.
— Давай деньги. Мне трехлинейную винтовку надо. Мне деньги надо.
— Э, кунак, хороший кунак. Неужели своего знакомого убивать будешь? Нехорошо, кунак. Воллай лазун, биллай лазун,[1] нехорошо.
Носов знал не только чеченцев. И по-чеченски знал.
— Деньги надо, больше ничего не надо.
Одноглазая берданка смотрела темным оком, определенно угрожая. Носов отличил эту встречу от привычных крепостных.
— Хорошо. Вот у меня шестьдесят рублей. Я отдам тебе их, Зелимхан. Я дал бы тебе больше, но у меня нет. Клянусь своим богом — нет. Возьми их. Поклянись только, что ты не убьешь ни меня, ни сына.