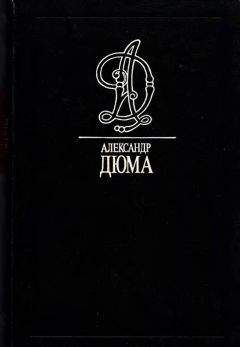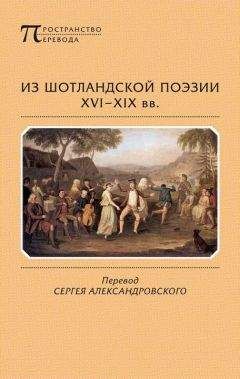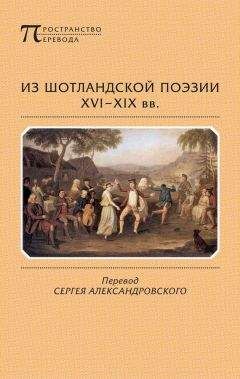Александр Дюма - Мария Стюарт
Как мы уже упоминали, Мария Стюарт возвратилась в Шотландию в разгар первых религиозных войн. Ревностная католичка, как и вся ее родня со стороны матери, она внушала кальвинистам самые серьезные опасения: распространился слух, будто бы высадиться она должна была не в Лите, куда приплыла только из-за тумана, а в Абердине. Там, дескать, ее должен был встретить граф Хантли, один из лордов, оставшихся верными католической вере, самый близкий и самый могущественный после семейства Гамильтонов королевский свойственник. Вместе с ним и с двадцатью тысячами воинов с Севера она якобы собиралась пойти на Эдинбург и восстановить католичество во всей Шотландии. Позднейшие события не замедлили доказать, что обвинение это было ложным.
Мария, как мы уже говорили, очень любила приора Сент-Эндрю, сына Иакова и благородной наследницы графов Map, бывшей в молодости поразительно красивой, однако, несмотря на всем известную любовь Иакова V к ней и на сына, который был плодом этой любви, она вышла замуж за лорда Дугласа из Лохливена и родила ему двух сыновей, старшего Уильяма и младшего Джорджа, являвшихся таким образом единоутробными братьями регента. Сразу же по возвращении в Шотландию Мария пожаловала Джеймсу Стюарту титул графа Map, принадлежавший его предкам по материнской линии, а поскольку титул графа Мерри оставался свободным после смерти славного Томаса Рэндолфа, она по сестринской любви присоединила этот титул к другим, которые уже носил регент.
Но тут дело оказалось и сложней и трудней; не такой характер был у новоиспеченного графа Мерри и не такой он был человек, чтобы удовлетвориться титулом без земель; земли же эти, перешедшие к короне, после того как пресеклась мужская ветвь прежних графов Мерри, мало-помалу были захвачены могущественными соседями, среди которых был и граф Хантли, которого мы только что упоминали; справедливо решив, что ее указы натолкнутся с его стороны на определенное сопротивление, королева под предлогом посещения своих северных владений выступила в поход во главе небольшой армии, которой командовал граф Map, он же граф Мерри.
Граф Хантли был не настолько глуп, чтобы поверить мнимому предлогу этой экспедиции, тем паче что его сын Джон Гордон за какие-то злоупотребления властью недавно был осужден на тюремное заключение. Тем не менее он выказал королеве все возможные знаки повиновения, отправил навстречу ей посланцев с приглашением посетить его замок и выехал следом за ними, чтобы самолично повторить приглашение. К несчастью, когда он ехал к королеве, комендант Инвернесса, его человек, отказался впустить Марию в этот замок, хотя он считался королевским. Правда, Мерри, считавший, что с такого рода мятежниками нельзя церемониться, уже приказал отрубить коменданту голову как государственному преступнику.
Это новое проявление твердости уверило Хантли, что молодая королева не намерена оставлять лордам ту почти неограниченную власть, которую они перехватили у ее отца; поэтому Хантли, хотя он и встретил самый благожелательный прием, едва узнав, что его сын бежал из тюрьмы и встал во главе своих вассалов, испугался, как бы его не сочли сообщником в этом мятеже, что, очевидно, так и было, и в ту же ночь тайно покинул королевский лагерь, чтобы принять командование над своими воинами, решив, поскольку с королевой было всего тысяч семь-восемь солдат, рискнуть и дать ей сражение; однако он объявил, как в свое время это сделал Баклю при попытке вырвать Иакова V из рук Дугласа, что возмутился он вовсе не против королевы, но против регента, который совершенно не дает ей воли и извращает все ее благие начинания.
Мерри, понимавший, что зачастую спокойствие всего царствования зависит от твердости, проявленной в его начале, тотчас же созвал всех лордов Севера, чьи земли граничили с его владениями, чтобы выступить против Хантли; на зов откликнулись все, потому что род Гордонов стал слишком могуществен, и каждый опасался, как бы он не стал еще сильней; однако было очевидно, что лорды, ненавидя вассала, отнюдь не питали большой любви к государыне и что в большинстве своем они прибыли на зов, не приняв окончательного решения, и собирались действовать в зависимости от обстоятельств.
Оба войска сошлись у Абердина; Мерри расположил отряды, пришедшие с ним из Эдинбурга, в которых он был уверен, на вершине холма, а на склоне поставил в несколько рядов своих северных союзников; Хантли решительно атаковал своих соседей горцев, и после недолгого сопротивления те в беспорядке отступили. Тотчас же воины Хантли бросили копья, выхватили мечи и с кликами «Гордон! Гордон!» бросились их преследовать, решив, что уже выиграли битву, но вдруг столкнулись с армией Мерри, стоявшей подобно стене, тем паче что благодаря длинным копьям она имела неоспоримое преимущество над противниками, вооруженными лишь клейморами.[17] Настал черед отступать воинам Гордона; видя это, северные кланы остановились, сплотились и вновь ринулись в сражение, причем каждый воин, чтобы отличать своих от чужих, воткнул в шапку ветку вереска. Эта неожиданная атака решила судьбу битвы; горцы скатились с холма, подобно потоку, сметая на своем пути всех, кто пытался им оказать сопротивление. Мерри, видя, что настал момент превратить поражение в разгром, ударил всей своей конницей; толстяк Хантли, бывший в тяжелых доспехах, упал и был раздавлен копытами коней; Джон Гордон бежал, но был взят в плен, а через три дня обезглавлен в Абердине; его младшего брата, который был слишком молод, чтобы разделить с ним его судьбу, бросили в тюрьму, а спустя три года, когда ему исполнилось шестнадцать лет, казнили.
Мария участвовала в битве, а присутствие духа и храбрость, какие она при этом выказала, произвели огромное впечатление на ее диких защитников; на всем обратном пути они только и говорили, что, дескать, она заявила, что хотела бы быть мужчиной, дни проводить на коне, ночи в шатре, тело прикрывать кольчугой, а голову шлемом, носить в руке щит, а на боку меч.
Мария вступила в Эдинбург, встреченная всеобщим ликованием, так как этот поход против католика графа Хантли пользовался поддержкой эдинбуржцев, не имевших ни малейшего представления о подлинных причинах, по которым он был предпринят. Они были реформатами, граф – папистом, то есть в любом случае врагом; вот и все, что они думали. Кроме того, шотландцы и вслух, в частности при приветственных кликах, и в письменных прошениях выражали пожелание, чтобы их королева, не имевшая ребенка от Франциска II, вторично вышла замуж; Мария согласилась и, следуя благоразумным рекомендациям приближенных, решила посоветоваться относительно своего брака с Елизаветой, чьей наследницей она, как внучка Генриха VII, стала бы, если бы королева Англии умерла, не оставив потомства; к сожалению, она не всегда действовала столь осмотрительно, потому что после смерти Марии Тюдор,[18] которую прозвали Марией Кровавой, предъявила претензии на трон Генриха VIII, основываясь на незаконности рождения Елизаветы,[19] приняла вместе с дофином титул королей Шотландии, Англии и Ирландии, велела выбить монеты с этим новым титулом и отчеканить на своей посуде английский герб.
Елизавета была на девять лет старше Марии Стюарт, к тому времени ей не исполнилось еще и тридцати, так что она была ее соперницей не только как королева, но и как женщина. Если говорить об образовании, Елизавета без труда могла выдержать сравнение с Марией Стюарт, поскольку, не обладая способностью пленять мыслью, отличалась основательностью суждений; сведущая в политике, философии, истории, риторике, поэзии и музыке, она, кроме родного английского, великолепно говорила и писала на греческом, латыни, французском, итальянском и испанском, так что в этом смысле превосходила Марию, но та была куда красивей и стократ привлекательней. Елизавета, правда, обладала величественной и приятной внешностью, у нее были живые, блестящие глаза, поразительно белая кожа, но зато рыжие волосы, большие ноги[20] и крупные руки, тогда как, напротив, Мария с ее прекрасными пепельными[21] волосами, бровями, в упрек которым единственно можно было поставить лишь столь правильную округлую форму, что многие считали, будто они подведены кисточкой, глазами, из которых неизменно лился пламенный поток, носом поистине греческой формы, со столь алыми и изящными устами, что, казалось, будто, подобно цветку, который открывается лишь для того, чтобы источать благоухание, они должны открываться только для произнесения сладостных слов, с белой шеей, изысканной, как у лебедя, мраморными руками, станом богини и детской ножкой являла собой настолько совершенное единство, что самый привередливый по части формы скульптор не сумел бы найти в нем никакого изъяна.
И это было подлинное и величайшее преступление Марии Стюарт: будь в ее лице или сложении какое-либо несовершенство, она не умерла бы на эшафоте.