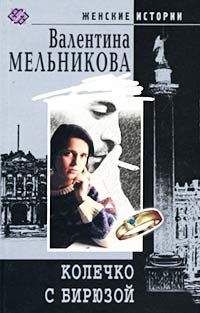Франсуаза Шандернагор - Королевская аллея
Презрение мое только усугубляло его безумную дерзость: он принялся донимать меня своими любовными записками, которые я находила повсюду — в карманах моего передника, в бомбоньерках, во всех книгах, вплоть до сборника псалмов. И всякий раз, увидев его почерк, я испытывала то же смятение, что и в его присутствии; одно лишь прикосновение к бумаге, которой касались его пальцы, вызывало у меня гадливость, доходящую до тошноты. Убедившись, что он не оставит меня в покое, я попыталась еще раз строго попенять ему, хотя мне и пришлось для этого остаться наедине с ним. «Вы напрасно подкупаете моих людей, сказала я, — я больше не читаю ваших писем, и вы добьетесь лишь того, что мне придется выгнать всех моих слуг». Маркиз не привык к подобным отповедям; наглый и грубый от природы, он вскипел, и его оскорбленная гордость перевесила любовь, которую он якобы питал ко мне. «Для того, чтобы их выгнать, вам придется сперва заплатить им жалованье!» — дерзко ответил он.
Это напоминание о нашей постыдной нищете привело меня в ярость; я решительно указала ему на дверь, но, увы, маркиз был из тех, кто в таких случаях возвращается через окно.
Он повсюду жаловался на мою жестокость, и кое-кто из знакомых начал упрекать меня: в те времена порядочная женщина не должна была отказываться от встреч с поклонником, пока тот не перешел границ уважения и приличий; ухаживание за дамой на людях было вполне дозволено, если оно не сопровождалось тайными отношениями. Д'Альбре, Буаробер и даже сама Нинон вступились передо мною за маркиза.
— Ежели вы ничего ему не позволили, то зачем так суровы с ним и лишаете своего общества? — удивлялась мадемуазель де Ланкло. — Ведь других ваших воздыхателей вы от себя не гоните!
— Это правда, мадам, — отвечала я ей, — но я отказываюсь от встреч с господином Вилларсо не только ради соблюдения приличий. Хочу вам признаться, что ненавижу его всеми силами души, столь сильно, что мне следовало бы покаяться в этом моему духовнику.
— Да неужто вам так противно общество моего бедняжки маркиза?
— Более чем противно. При виде его я готова упасть в обморок от ужаса.
— В самом деле? Однако это серьезнее, чем я думала… Уверена, что, перескажи я ваши слова нашему другу Вилларсо, он был бы вне себя от радости.
— Отчего же?
— Отчего? Да оттого!.. Какое же вы еще дитя! Старайтесь быть более равнодушною, если не ради Бога, который меня ничуть не заботит, то хотя бы ради моего друга Скаррона.
Тем временем «друг Скаррон» смеялся над теми, кто намекал ему на притязания Вилларсо, ибо, в отличие от Нинон, свято верил в мое отвращение к означенному воздыхателю.
Буаробер повсюду распевал шутливые стишки о любовных мучениях своего домохозяина:
Маркиз, поведай, что с тобой?
Бредешь с поникшей головой,
Задумчив стал, печален вдруг,
Что за напасть, мой милый друг?
Признайся мне, да не хитри:
Грустишь ты дома, в Тюильри,
И на прогулке мрачен взгляд,
Да и друзьям совсем не рад,
И весь ушел в свои мечты,
Уж не влюблен ли, часом, ты?
Уж не пленен ли той брюнеткой,
Что блещет красотою редкой?
Она любезна и мила,
Она умна и весела,
И я приметил взор твой страстный,
Что обращен был к сей прекрасной.
И впрямь, достоинств в ней не счесть:
Ее не зря возносит лесть.
Увы, маркиз, не жди успеха, —
Тут есть досадная помеха:
Сия красавица строга
И зело честь ей дорога.
На всех мужчин взирает грозно.
Так отступись, пока не поздно!
К счастью, они прошли незамеченными между «Capriccio amoroso alla gentilissima e bellissima signora Francesca d'Aubigny.»[34] Жиля Менажа, элегиями шевалье де Кенси, в свой черед опубликовавшего посвященные мне элегии, вроде этой:
Когда я думаю о пламенном волненьи,
В какое вверг меня, Ирис, ваш чудный взгляд,
То умереть я рад в безрадостном томленьи,
Но в радостях любви погибнуть также рад,
и последним «шедевром» Ла Менардьера, заверявшего меня, что даже солнце Новой Индии не сверкает так ярко, как «два дивных светила», а именно, «обожаемые им очи». Поразмыслив, я решила, что господин Вилларсо виновен не более, чем эти мои воздыхатели, и мне захотелось вернуть его к нам. Я только поставила ему непременное условие: быть послушным и почтительным. Он обещал все, что мне угодно; я не знала, что Луи де Вилларсо способен быть покорным ровно столько же, сколько Дьявол мог бы быть монахом.
Едва ступивши на порог нашего дома, он вновь принялся за свои эскапады. То он приводил ко мне в комнату медведя вместе с поводырем, дабы развлечь меня видом существа, «равного мне в свирепости». То преподносил молитвенник, переплетенный в змеиную кожу, и приглашал рассудить, чья кожа холоднее на ощупь моя или змеиная. То бросался передо мною на колени, разыгрывая кающегося грешника: «Сударыня, я не достоин, чтобы вы меня принимали, но скажите хоть слово, и вы возродите меня к жизни!» И все это шутовство перемежалось нежными речами, томными вздохами и слезами, которые он проливал легче легкого.
В противоположность тому, что я чувствовала к маршалу д'Альбре, я никогда не думала о господине Вилларсо в его отсутствие и легко позабыла бы его вовсе, не встречайся он мне на каждом шагу. Он быстро понял это и неотступно следовал за мною, шутя разрушая те хрупкие препятствия, что я пыталась ставить между ним и собой.
— Мой муж…
— Вы его не любите. Да и сам он, без сомнения, не хочет, чтобы вы постились всю свою жизнь, тогда как он в прошлом натешился вдоволь.
— Но свет…
— Не бойтесь огласки, — неблагодарность и болтливость не входят в число моих пороков.
— А Бог, который все знает…
— А Бог, который все знает, никому ничего не скажет.
Сопротивляться было тем более трудно, что все меня покинули. Госпожа де Моншеврейль вернулась к себе в деревню; впрочем, и она и ее муж слепо обожали своего кузена. Нинон также питала слишком большую нежность к предмету своей былой страсти, чтобы не желать ему счастья, хотя бы и ценою моего спокойствия. У Скаррона хватало других забот.
Здоровье его становилось все хуже и хуже; у него уже не было сил писать длинные сочинения и он ограничивал свой талант коротенькими эпиграммами да уроками версификации для провинциалов. Встречи с ним выходили из моды: люди стремились теперь попасть к Нинон, к госпоже де Лафайет, тогда как «Приют Безденежья» мало-помалу погружался в тишину забвения. Все это беспокоило моего супруга гораздо более, чем флирт слишком сумасбродного кавалера с его слишком благоразумною женой…
В один из вечеров я пришла к Нинон; поскольку все стулья, даже складные, были уже заняты, я сложила столбиком десять томов «Клеопатры» Кальпренеды и уселась на них, благо это было единственное, на что они годились; хозяйка рассмеялась и похвалила меня за то, что я не выбрала для этой цели «Кассандру» того же автора, ибо тогда сидела бы почти на полу (эта пресловутая «Кассандра» составляла всего две-три тощие книжицы). «О, не сомневайтесь, — подхватил тут же Вилларсо, — мадам Скаррон так легко не уложишь ни в постель Кассандры, ни на ложе Клеопатры!»
Несколько времени спустя у нас обсуждали брачный Конгресс, которого потребовала госпожа де Ланже в доказательство того, что ее муж не способен выполнять супружеские обязанности и оставил ее девственницей; кто-то спросил меня, буду ли я там присутствовать: тогда это было в моде, и даже самые благочестивые и разумные люди сбегались на сие непристойное действо полюбоваться тем, как мужчина и женщина совокупляются в присутствии священников и врачей так, словно находятся одни, в тиши домашнего алькова. Я отвечала, что, разумеется, не пойду, ибо мне противны все гадости, связанные со столь интимным делом. «И вы правы, — сказал мне Вилларсо во всеуслышанье, перед собравшимися. — Если господин де Ланже вдруг найдет у себя в штанах нужное доказательство и выиграет процесс, то для вас сие зрелище будет весьма поучительно, и вы, не дай Бог, тоже кое о чем пожалеете…» Эти его слова ясно доказывали, что страсть побуждала его не только на глупую болтовню, но почти на оскорбления…
Однако, шли последние месяцы моей совместной жизни с господином Скарроном: болезнь несчастного калеки и наша бедность неотвратимо приближали его конец.
Ноги его, и без того скрюченные, свело до такой степени, что острые колени врезались в грудь, причиняя невыносимую боль; мне приходилось обвязывать их лоскутьями, чтобы уменьшить страдания больного. Опиум уже не помогал ему заснуть. «Если бы я мог покончить с собою, то давно бы отравился», сказал он кому-то из друзей.
Несмотря на возрастающую слабость, он все же нашел в себе силы отправиться в портшезе в бюро казначейства, чтобы выпросить новый аванс из пенсиона, назначенного ему господином Фуке. Служащие сюринтендантства, которым давно надоел этот неутомимый попрошайка, выслали слуг поколотить нашего лакея Жана и пригрозили его хозяину хорошей взбучкою, если он не угомонится и опять придет сюда за тем же делом. Тогда Скаррон обратился с письмом к самому сюринтенданту. «Это наша последняя надежда, — писал он. — Я умираю от печали. Если вы откажете, мне и моей жене останется лишь одно — отравиться». Ответа не последовало…