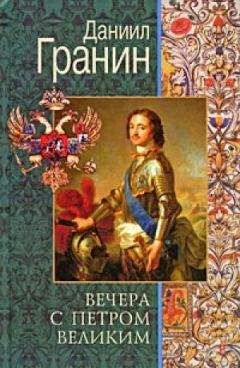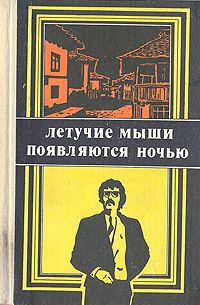Георгий Гулиа - Фараон Эхнатон (без иллюстраций)
«…Что все-таки думает этот старик? Неужели он уверен, что я домогаюсь его согласия? Дудки! Сказано – сделано! Все земли вселенной – если даже сговорятся против меня, – и те не переубедят! Только негодяй может принести свою любовь в угоду делу…»
– Давай продолжим разговор о любви, – сказал фараон, перекатываясь на левый бок и глядя на старого царедворца из-за плеча.
– А твое величество спать не предполагает?
– Какой сон! Ты видишь, его нет ни в одном глазу! – Его величество протянул руку к медному зеркалу и посмотрел в него. – Словно бы только что проснулся после крепкого сна.
– Да, это верно, твое величество. Ты словно птичка, только что выпорхнувшая из гнезда.
– Так давай же про любовь!
– Как верноподданный твоего величества, как служащий твой, недостойный тебя, я могу лишь выразить мое неудовольствие по поводу всякой любви, которая может смутить хотя бы еще несколько человек в государстве. Ибо не бывает так, что двое любят друг друга или расходятся друг с другом и это никого не касается. А если касается, значит, власть должна иметь свое суждение. Я не могу думать иначе. В противном случае ты мне откажешь в своей милости.
Его величество не ответил. Он смотрел на потолок, где летали болотные птицы – невысоко в небе, – и в эти мгновения завидовал им. «Им не надо ничьего разрешения на любовь. Не надо знать ничьего мнения по поводу своих подруг». Он покосился на Пенту. Тот сидел ровный, точно юноша. А глаза – тяжелые. И не мудрено: ведь скоро утро! Небо бледнеет за Восточным хребтом…
– Ну что ж, – задумчиво проговорил его величество, – я понял тебя. Я хорошо понял тебя. Дай бог, чтобы все тебя понимали вот так же. И дай бог, чтобы ты не пережил меня!
Старик вздрогнул. Слова фараона прозвучали зловеще в этой комнате, освещенной яркими светильниками, в этой комнате – средоточии вселенной, где каждое слово его величества по весу равно одной – самой большой – глыбе пирамиды Хуфу. Пенту почувствовал, как взмок у него парик.
– Я стар, чтобы пережить тебя, твое величество.
– Я говорю: не дай бог, чтобы пережил.
– Как это понимать? – чуть не возопил старик, учуяв какой-то нехороший смысл в словах фараона.
Но его величество успокоил его:
– Я хочу сказать, что после меня – случись со мной худое – на тебя разом ополчится столько людей, что даже и не счесть.
Пенту свободно вздохнул:
– Я не боюсь их, твое величество.
– Их надо бояться страхом азиатского зайца.
– Не боюсь ни их, ни угроз их!
– Ты слишком самоуверен, Пенту.
Фараон неожиданно признался, что голоден. Пенту отметил это как добрый знак: желание поесть – всегда свидетельство здоровья. Его величество хлопнул в ладоши. Всего один сухой треск…
Дверь отворилась. На пороге появился кто-то, кого не видел Пенту. Фараон молчал. Его светлость Пенту приказал, не поворачивая головы:
– Фруктов и пива… Не надо пива! Фруктов и вина! – И, обратившись к его величеству, сказал: – Я бы не отяжелял желудок грубой едой. И даже легкой. Фрукты утолят голод, а вино приведет в равновесие твои чувства.
Фараон сказал, словно и не расслышал слов Пенту:
– Ее величество переедет в Северный дворец. Не завтра. Не очень скоро. А ты, Пенту, объявишь о вступлении в свои права моего соправителя.
– Когда, твое величество?
– Когда? Это надо обдумать. Не завтра, разумеется. И не послезавтра. Но дело это решенное.
Пенту задал самый тяжелый для себя вопрос. Фараон ждал его.
– Твое величество, а знает ли об этом ее величество, мать твоих детей?
«…Эти утки летают в поднебесье как ни в чем не бывало. Разве вот тот селезень обязан отчитываться перед ними, с кем он разделит этой весной свое сухое ложе?..»
– … Знает ли она?
«Летает себе, поглядывает на нее и дышит полной грудью, которая вся в пуху…»
– Она? – рассеянно спросил фараон.
– Да, она.
– Она узнает… От тебя… Ты это объяснишь ей как нельзя лучше…
Принесли фрукты – свежий виноград, гранат, сушеные плоды сикоморы. В золотом сосуде вино – «Прекрасное дома Атона». Оно словно кровь, точно агат на перстне фараоновом.
Его величество выпил вина. А к фруктам не притрагивался. Он выпил еще. Повеселел. Глаза его расширились. И фараон приказал пить своему советнику. А потом сказал:
– Пенту, не хотелось бы тебе приятной музыки?
Старик не успел и рта раскрыть, а уж фараон распорядился о том, чтобы музыканты прибыли незамедлительно.
– Пенту, – сказал его величество, – мне хочется веселья. Ведь так редко веселюсь в последнее время! Не так ли?
– Дом Атона стал сумрачным, твое величество.
Они выпили еще. И прикоснулись к винограду. И к плодам сикоморы тоже.
Фараон присел. Высоко поднял чашу, которая из золота.
– Пенту, я должен подкрепиться, ибо скоро дела призовут меня в тронный зал.
И фараон кивнул на бледнеющий восток.
– Ты совсем еще молод, – сказал Пенту, отпивая вино большими глотками. – Совсем молод. Разве тридцать пять – это много? И все-таки гляжу на тебя и дивлюсь: откуда столько силы в твоих жилах?
Вдруг фараон помрачнел. Нос его заострился. А глаза поблекли, точно на месте их появилась вода.
Фараон, проскрежетал:
– Силы дает мне отец мой – великий Атон…
Тяжелые челюсти его шевелились едва заметно. Но шевелились. И это было страшнее всего. Фараон смотрел на царедворца и не видел его. Что-то желтое и тяжелое вставало перед глазами. Точно угасало зрение. Что же это такое?.. Может, прикрыть веки? Вот так, пальцами. Как прикрывают глаза мертвым…
«…Что это с ним? От гнева побледнел. Веки опустились, точно крышки тяжелых ларей. Сейчас самое время глотнуть настоя. Это быстро остудит огонь, согревающий затылочную кость изнутри…»
Пенту бросился к его величеству, поддержал голову и подал ему сосуд с настоем.
– Пей, – попросил он, – пей… Это пройдет.
Фараон отпил, облизнул большие мясистые губы и глубоко вздохнул.
– Я было рассердился на тебя, Пенту. Садись. Гнев мой недолог. Ибо ты – в сердце моем! А глаза застлало мне что-то очень желтое. Наподобие полевых цветов, которых много на берегах Хапи…
К его величеству вернулся обычный цвет лица. Широко открыл глаза и улыбнулся:
– Где же музыканты, Пенту?
– Они ждут твоего приказа.
– Пусть войдут.
Четыре певца вползли на животах, не смея взглянуть на благого бога. Они проползли в угол. Встали на ноги – полусогбенные. Скрестивши руки на груди. Это были мужчины среднего возраста. Крепкие. Склонные к полноте. В одинаковых париках. В одинаковых коротких одеяниях.
Вот снова приоткрылась дверь, и четверо музыкантов показались на пороге: коленопреклоненные, не смея поднять глаза на его величество правителя Верхнего и Нижнего Кеми. Так и прошли в угол – коленопреклоненные. И там застыли. Спиною к певцам, упершись подбородками себе в грудь.
Слева стояли арфисты – с большой двадцатиструнной и малой семиструнной арфами. Рядом с ними – большая и малая флейты. И музыканты тоже в одинаковых одеяниях. Только певцы – в розовых, а музыканты – в белых. А парики у всех как на подбор: не отличишь друг от друга…
– Пенту, – сказал фараон, пробуя от тяжелой виноградной грозди, – музыканты и певцы, когда они готовы исполнить свою обязанность, должны смотреть вперед – гордо, весело улыбаясь.
– Я им это говорил сто раз! – рассердился Пенту и, оборотившись к музыкантам, проворчал: – Что я твержу вам без конца? Не стойте словно каменные! Вы несете радость и наслаждение, так где же на ваших лицах эта радость и обещание усладить слух ваших слушателей?
Пенту говорил словами его величества. Что касается его самого – он давно бы прогнал прочь этих жиреющих бездельников. К чему они? Чтобы петь большую часть суток для собственного удовольствия?
«Он ненавидит их. Этот Пенту. Я не понимаю, почему он так ненавидит? А ведь, казалось бы, человек умный…»
«Я бы этих дармоедов заставил работать на поле – растили бы хлеб! Так же как ваятелей и живописцев, окружающих толпой его величество. Каждый кусочек золота так нужен – позарез нужен! – для оплаты доблести воинов и труда чиновников, а тут какие-то шалопаи набивают себе желудки отборной пищей, заваливают город каменными глыбами и оглушают дворец звуками флейт и арф…»
«…Этот Пенту ненавидит музыку всей душой. Очень трудно его понять. Невозможно понять! Неужели он полагает, что Кеми – великое царство вселенной – может обойтись без песен и живописи, без гимнов и каменных изваяний?»
Фараон спросил с усмешкой:
– Пенту, скажи мне: откуда такая ненависть ко всему изящному?
– Ненависть? – удивился царедворец, а сам подумал: «Он читает мои мысли, как в книге письмена! Он бог! Он бог! Великий и неповторимый бог!..»
– Не ври мне, Пенту. Я вижу все!
Старик аж вспотел:
– Я говорю истинную правду, твое величество.
Фараон махнул рукой, – дескать, ладно, будет тебе. Растянулся на циновке, подперев голову руками. И внимательно пригляделся к музыкантам и певцам.