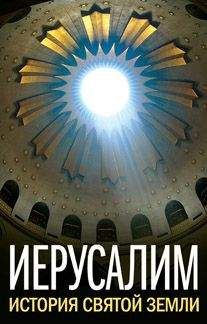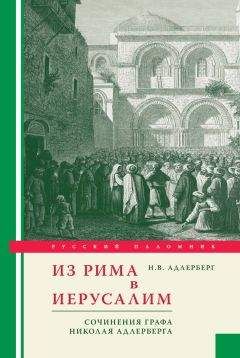Георгий Гулиа - Сулла
– Я? – Вакерра задумался.
– Скажем, семьдесят, – подсказал Сулла.
– Допустим…
– Пусть даже сто!
– Допустим!
– Сопоставь эти сто с вечностью.
– Сопоставил.
– Что получил?
– Ничего!
– Вот видишь, – сказал Сулла торжествующе, – ничего! А ты возлежишь за столом и размышляешь: нет, без женщин нельзя, с мужчинами скучно. А в могиле, скажи, не скучно?
Сулла улыбался. Ему было приятно, как задрожал этот поэт при слове «могила».
– Вот вам, господа, замечательный пример: человек привередлив, ему не эту, а другую подавай любовь, ему не этих, а других собутыльников приглашай! А что получается на поверку? Что получается, спрашиваю.
Казалось, Сулла сердится. И на самом деле он сердился и просто-напросто негодовал при мысли о том, что так мало остается жить, а тут еще заставляют выбирать любовь не по твоему желанию, а по чьей-то прихоти. Чего еще нужно этим дуракам, которые завтра навсегда сойдут в могилу. А сегодня они еще кочевряжатся и лезут к тебе со своим вкусом! Люби кого хочешь. Хотя бы козла!
Веселая компания решила, что мужская любовь имеет свою прелесть… Сулла не без основания вдруг подумал, что ему подыгрывают, что с ним безоговорочно соглашаются, памятуя его связь с актером Метробием. Ну что ж? Он не будет отрицать: Метробий был и остался его другом. Настанет день, и каждый, кто злословит по адресу Метробия или Суллы, будет держать ответ. Суровый ответ! Сулле тычут в глаза не только милого Метробия. Его попрекают бедностью. Разве не напоминают Сулле о его прежней римской квартире? Мол, такую квартиру мог снимать любой вольноотпущенник. Всех замолчать не заставишь. Да, пока еще не заставишь…
Рим не такой город, который молчит. Рим злословит постоянно. Рим столетиями морочит голову себе и другим. Рим раздувает.
Рим из комара делает льва ливийского. Женские языки в Риме и того хуже. Разве не поют песенку, слова которой состоят всего-навсего из трех имен?
Илия,
Элия,
Клелия!
Это три имени жен. Первой, второй, третьей. И со всеми – развод! Один конец. Потому что так нужно было. Присобачили к трем именам дурацкий мотивчик, который породили афинские лавочники. И получилась песня про Суллу. Пусть поют! Сулле ни холодно, ни жарко… Если уж говорить правду, Илия, Элия и Клелия – все, вместе взятые, не стоят и мизинца красавца Метробия! Если угодно, Сулла все это может высказать вслух, где угодно, хоть в сенате. И вообще он плевал на так называемое общественное мнение. Пусть точат языки за закрытыми дверьми, на супружеских ложах. Сулле ни холодно, ни жарко.
– За любовь! – провозгласил Сулла. – И пусть каждый придает этому слову свое значение. А кто нас осудит, – их и я, и все мы…
Тут он запустил такое ругательство, что остийские моряки диву бы дались. Африкан добавил кое-что еще и от себя. В стиле испанских морских разбойников, развращенных до крайней степени. В Риме говорили, что хуже выгребной ямы воняет только язык испанских морских разбойников.
Ругань окончательно развеселила мужчин. Каждый поднимал чашу и пил напиток, который ему по сердцу. Кто-то вспомнил про музыку: будет ли нынче музыка?
Оппий успокоил: будет в свое время. Ведь пора еще детская, до рассвета, наступающего теперь около двух часов утра, – целая вечность.
Актеры буквально обжирались. Буза усиливала их аппетит.
Африкан приказал убрать все со стола, подать свежие салфетки и чистую посуду. Наступил черед для горячего. Что еще придумал Африкан?
Эпикеду помогали трое рабов – молодых, расторопных. Повара приготовили горячее только что: оно, таким образом, было, что называется, с пылу с жару.
Хлеб тонкий, особой выпечки, из крупчатой муки – белой как снег. Такой хлеб обожают в Дамаске. Финикийцы тоже подают его к столу. В праздничные дни. Только одним этим хлебом можно насытиться. Точнее, это хлебные лепешки…
Вот поданы на серебряных блюдах пулярки и каплуны под лимонным соусом. На них перья, и кажутся они совершенно живыми. Но это – лишь наряд, который легко снимается. Все кости выбраны загодя, мясо изжарено так, что кожица будет похрустывать на зубах. Однако оставлено в этом птичнике свободное место. Пирующие гадали: для чего оно предназначено? Чье царственное место среди пулярок и великолепных каплунов?
Наконец разрешилась и эта поварская загадка. На огромном блюде с потолка опустился павлин. Кто отдал его в руки повара? Актеры, казалось, натурально пожалели его. Они охали и ахали. Архимим прослезился – сказалось количество принятой бузы. Сулла успокоил его: компания выше всего, дружба превыше всего! Павлин жил на чердаке и слетел сюда в назначенный час…
Павлиньи перья переливались цветами радуги. Сверкали глаза его на ярком свету – Эпикед зажег специально для этого случая еще несколько свечей на коринфских подсвечниках.
Появилось фалернское. Бузу убрали. Вопреки протестам актеров: их убедили, что буза неприлична в присутствии его величества павлина.
Сулла – пока заново сервировали стол – беседовал с ваятелем. Речь шла о том, чтобы изваять бюст Суллы. Это нужно во всех отношениях: для сегодняшнего дня и будущих времен. То есть совершенно необходимо. У ваятеля имеется для этого уникальный кусок мрамора. Он бережет его для Суллы, и только для Суллы. Ибо кто есть Сулла? Спаситель республики. Кто есть Сулла? Друг всех художников. Кто есть Сулла? Друг всего народа. Нет, нельзя откладывать работу над бюстом до будущих времен. Жизнь превратна, человек – не камень.
Сулла сказал, смеясь, что вполне гарантирует ему еще лет сорок жизни. И себе тоже. Так что дело не столь уж спешное. Лучше всего позировать после восточного похода. Тогда все будет ясно. На душе станет покойней…
– На твоей душе, Сулла? – воскликнул ваятель.
– Да, на моей.
– Не верю, Сулла! Ты не из таких! Ты из непоседливых и неспокойных.
Сулла поцеловал его в лоб и пообещал сделать для него не совсем обычное.
– Что же? – полюбопытствовал ваятель.
– Увидишь сам. И скажешь мне спасибо.
Ваятель поцеловал полководцу руку в порыве особой благодарности, которую не выразить словами.
– Помяни мое слово, – сказал Сулла важно и обратил свой взор на павлина. Оппий вонзил длинный и острый нож в грудку чудо-птицы. На острие оказался самый лакомый кусок, и этот кусок Оппий преподнес Сулле. Сулла поблагодарил его, поднял высоко чашу и выпил за друзей. Он сказал, что высоко ценит их любовь. И в свою очередь отплатит им сторицей. Кто может сказать, что Сулла не держит своего слова? Ну, кто? Сказано – сделано! Таков закон, которого всегда придерживается Сулла. Он начнет с тех, кто возлежит за этим столом. Что надо, например, Африкану? Пусть скажет он, что надо?
Африкан засмущался. Но не очень.
– Одна небольшая вилла на Квиринале меня вполне бы устроила.
– Ты ее получишь, – сказал Сулла, как о деле решенном. – Вернемся из похода – и вилла будет твоя. – Он обратил взор на актера.
Полихарм, как говорится, не растерялся:
– О великий Сулла! Дали бы мне пятьдесят тысяч сестерциев, и я бы знал, что с ними сотворить.
Сулла и это решил в одно мгновение:
– Пятую долю ты получишь завтра. У Эпикеда. А остальную часть – по возвращении из похода.
Актер бросился целовать ноги своему покровителю. Тот был изрядно пьян и не возражал против пылкого проявления любви и благодарности.
– А ты, Оппий? Почему ты молчишь? Или тебе ничего не надо? Скажи – не надо?
Оппий плотно сжал губы, словно боясь их раскрыть.
– Молчишь?! Как рыба?! – кричал Сулла, прихлебывая вино.
– Мне ничего не надо, – сказал Оппий. – Я бы хотел вечно лицезреть тебя, как сегодня.
Сулла уставился на него изумленным взглядом. Помолчал. Прищурил глаза. Поднял кверху палец.
– Оппий!
– Я здесь.
– Оппий!
– Слушаю тебя, о великий!
Сулла привстал, выкинул вперед правую руку, точно собирался принести клятву. И сказал весьма мрачно:
– Вы не знаете меня… Не пытайтесь возражать… Вы ничего не знаете… Вы глядите на меня кошачьими глазами. Бараньими глазами. Буйволовыми глазами… Вы – словно дворняжки. Виляете хвостами. А меня совсем не знаете!.. – Сулла перевел дух, потому что слова теснились в его горле беспорядочно, мысль обгоняла слова. – Я не совсем тот… Это говорю я, Сулла! Попомните мои слова! Пусть каждый из вас выскажет свою просьбу. Ну, мечту, что ли. И я заявляю: да будет так! Философию и все такое я презираю. Философы только пыжатся, но ничего не стоят. Вспомните Аристотеля, вспомните Платона. Не знаю, как вам, но мне они не нужны. В битве они всегда были плохими помощниками.
Все хором закричали, что эти два грекоса только мозги туманят людям своим учением. Рим вовсе не нуждается в расслабляющих философиях. Разве Митридата победишь философией? Да и он плюет с высокого кипариса на Платона и Аристотеля. У него своя философия: щит и меч!
– С виду вы простые смертные, – сказал Сулла, – однако рассуждаете мудро… Словно боги…