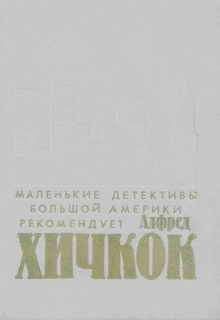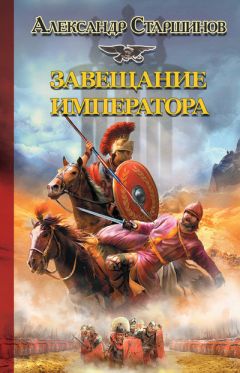Александр Старшинов - Завещание императора
– Если я расскажу наместнику Сирии, что ты по здравом размышлении решил передать ему пергамент… – Приск снизил голос до мягкого шепота.
– Я не могу… – так же шепотом с невыносимой мукой ответил Плиний.
– С обещанием вернуть… – продолжал шептать Приск, суля то, что исполнить ему не по силам.
– Я… не могу…
Тем временем Калидром раздувался от гордости, наблюдая, как в столовую вносят приготовленное им блюдо в виде Капитолийского холма с храмом на вершине.
Раб-разрезальщик принялся накладывать гостям большие, огромные даже куски.
Плиний попробовал первым, одобрительно кивнул.
– Я уже объелся, – признался юный Марк. – Мы что, должны слопать еще целый Капитолий? О нет, без меня…
– А я кусок все же съем, – засмеялся Приск.
Он взял кусок… И вдруг что-то кольнуло палец… Кость?
Трибун опустил кусок на свою тарелку, попытался отобранным у раба ножом отделить осколок кости… и вдруг понял: это не кость – под металлическим лезвием хрустнуло что-то речным песком… Приск наклонился и ногтем подцепил прозрачный крошечный осколок.
Сомнений не было – внутри Капитолий был нафарширован толченым (но отнюдь не в пыль) стеклом. Причем так ловко, что в мягком соусе из шафрана и яиц увязли острые осколки.
– Стойте! – закричал Приск, вскакивая. – Никому не есть! Это отрава!
Калидром, по-прежнему стоящий в углу триклиния, побелел.
– Не может быть… нет… я же сам пробовал. – Он кинулся – но не вон из триклиния, а к своему творению, схватил кусок, положил на язык, подвигал челюстями…
Ощутил на зубах отвратительный хруст, спешно выплюнул не проглоченный кусок, схватил у виночерпия кувшин и, отхлебнув прямо из горла, прополоскал рот и опять выплюнул – струей на пол.
– Вот же лысая задница… – выругался он на солдатский манер.
Плиний тоже поднялся. Поднес к губам салфетку. На белом льне расплылось алое пятно. Но, вместо того чтобы срочно сплюнуть, наместник судорожно сглотнул… стиснул зубы… с уголка рта стекла алая капля…
Юная супруга Плиния испуганно всплеснула руками, но так и осталась сидеть. Вдруг разом взвыли и запричитали сбившиеся в углу триклиния слуги. Если господина отравил кто-то из них, домашних, всех ждет неминучая смерть.
– Почему никто не попробовал блюдо… почему никто не наблюдал… – Приск оглядывался, пытаясь найти виноватого.
Он только сейчас понял, что Плиний и подумать не мог, что один из его домашних попытается убить хозяина или отравить. К рабам и вольноотпущенникам он относился снисходительно, а они платили ему полновесно – леностью и пренебрежением, – но не злоумышляли никогда. Приск зачем-то схватил за шкирку одного из прислужников, кажется структора, который руководил подачей на стол череды блюд, игрой музыкантов и прочими радостями хозяйского пира.
Раб заверещал от ужаса и инстинктивно принялся выдираться, суча ногами и визжа, и едва не опрокинул стол. Приск отшвырнул его, тот больно стукнулся спиной о стену, вскрикнул да так и остался сидеть, оглядывая столовую круглыми от ужаса глазами.
Тем временем Постумий Марин, также присутствовавший на обеде, поднялся со своего места.
– Тита ко мне, – послал он одного из рабов за мальчишкой-прислужником, что в это время вкушал остатки блюд в комнатке при кухне.
– Нет, – прошептала юная Кальпурния и подалась вперед. – Нет… – Она схватила Плиния за руки и принялась рассматривать его пальцы – на одном тоже была кровь. – Ты просто порезался… да, ты просто порезался… зачем ты берешь нож… неужели у тебя нет хорошего разрезальщика… – причитала она, мотая головой и не замечая, что по щекам ее текут слезы. – Ты порезался…
– Это все твой подлый помощник… Авл Сканий, – вдруг забормотал один из слуг, кидаясь в ноги наместнику. – Я видел, видел, как он явился днем на кухню и все вертелся возле чистого блюда…
– А еще он сказал, что маловато соли, – вспомнил вдруг Калидром. – Да-да… Это он наверняка подсыпал толченое стекло вместо соли.
– Рвота… надо немедленно вызвать рвоту, – заявил Постумий. – Приляг, сиятельный, – попросил он Плиния. – Кто не ел последнее блюдо, все покиньте столовую. А кто ел – пусть останутся – я осмотрю каждого.
Плиний подтверждающе махнул рукой, давая понять, что просьба лекаря – его приказ. Тит, примчавшийся на зов, уже подавал врачу специальные перья – как раз для того, чтобы вызывать рвоту.
«Если даже внутренности и оцарапаны, они заживут – мало ли обломков костей довелось мне слопать за свою карьеру, и вот ничего, живой… Так и Плиний выкарабкается», – попытался уговорить себя на счастливый исход происшедшего Приск.
За время службы ему не однажды пришлось очутиться в легионном госпитале. Так что понахватался он всяких медицинских мудростей, мог и нетяжелую рану перевязать, и кровь остановить, стрелу вынуть и прижечь рану, кое-что знал про отраву – когда сам себе готовишь из того, что подвернется под руку, на жаре или из чужих припасов – отравиться тухлятиной или нарочно подкинутой дрянью ничего не стоит.
Постумий и Тит тем временем вывели Плиния из столовой. Кальпурния побежала следом, на ходу бормоча обеты Асклепию и Гигее.
Остальные же гости ринулись в латрины – спешно ковырять в горле выданными Титом перьями и обильно блевать. Даже те, кому не довелось отведать начиненного толченым стеклом блюда, на всякий случай опорожняли желудок. Несчастный Калидром зачем-то побежал наблюдать, как извергаются наружу его кулинарные изыски. Если бы он был философом, то наверняка придумал бы на этот счет какую-нибудь мудрую сентенцию в стиле прежнего обитателя дворца Гая Петрония. Но грек лишь в отчаянии ломал руки.
Приск, не успевший проглотить кусок, не пострадал вообще. Марк и не притрагивался. На всякий случай военный трибун еще раз прополоскал рот и отправился к наместнику – узнать, как он. Наместнику было худо. Плиния, который имел дурную привычку глотать пищу почти не жуя, рвало кровью… Его уложили не в спальне, а в таблинии, куда вынесли хозяйское ложе. Здесь было более воздуха и простора для многочисленных слуг.
Супруга Плиния стояла на коленях рядом с кроватью.
Приск распорядился послать за Авлом.
Того привели. Военный трибун расположился на стуле, что поставили рядом с креслом наместника. Себя он посчитал облеченным властью если не судить, то вести допрос.
– Ты подсыпал стекло в блюдо Калидрома? – спросил, едва арестанта привели.
Авл, руки которому предусмотрительно связали, и два караульных при этом стерегли у дверей, лишь скривил губы:
– Если я скажу нет, ты мне все равно не поверишь.
– Зачем?
Пленник, казалось, не слышал вопроса. Он глядел куда-то мимо Приска и говорил монотонным равнодушным голосом, как будто рассказывал историю, которая к нему, Авлу, не имела никакого отношения:
– Плиний виноват в том, что меня посадили на тот трухлявый корабль и едва не утопили. Я проклял его и поклялся отомстить. Я прибыл сюда для мести. И… вдруг понял, что ненависти больше нет. Как киснет вино в открытой амфоре, так и ненависть моя за долгие годы превратилась в уксус печали. Я вдруг выдохся. Как бегун, который бежал слишком долго.
– Почему ты решил, что Плиний виновен?
– А кто еще мог нашептать Траяну мое имя? Другие, куда виновнее меня, выжили и сохранили состояние. Значит, кто-то лично указал на меня. Кто-то близкий к императору.
Неведомо почему, но военный трибун ему поверил.
– Это я назвал твое имя императору, Авл, – сказал Приск. – Я стремился к мести.
Арестант вздрогнул, перевел взгляд с наместника на трибуна.
– Да? Значит, сама Судьба мне велела убить именно тебя.
– Судьба велела? Или твоя ненависть ко мне так и не успела прокиснуть? – криво усмехнулся Приск.
– Ненависть? О да… тебя я по-прежнему ненавижу. К тому же я узнал о твоем умении узнавать людей спустя много лет – Плиний накануне твоего приезда рассказал на обеде, зачем вызывал тебя в Никомедию. Ты бы непременно признал во мне Эмпрония. Ты явился разрушить мою жизнь. И жизнь остальных. И забрать в Рим моего приятеля Калидрома. Ты был опасен. Ты – а не Плиний.
Приск нахмурился. Похоже, арестант говорил правду. Если Авл был дружен с Калидромом, зачем надобно было подсыпать отраву в блюдо, подвергая несчастного повара риску, быть может, обрекать на смерть и наверняка – на пытку? Опять же – Авла заперли еще до полудня, блюдо готовили долго, и если Авл всыпал толченое стекло утром, то кто-то должен был заметить, либо готовя соус, либо пробуя приправы, либо…
– Сира! – прошептал Приск.
Он вдруг вспомнил истерику вольноотпущенницы, выкрики «будь болен», когда ее тащили прочь со двора.
– Привести кухарку, – приказал он одному из караульных.
Авл вздрогнул и проводил караульного взглядом.
«Она», – еще не начиная допроса, понял военный трибун.
Женщину доставили. Она была бледна и мелко дрожала. Безумным взглядом обвела комнату, увидела наместника на кровати, а подле кровати – таз, полный крови. Зажженные в таблинии светильники наполнили помещение синеватым дымом. После первого вопроса (не понадобилось даже прибегать к плети) Сира созналась во всем – и в том, что толченое стекло пронесла на кухню в стянутых узлом буйных волосах – там можно было спрятать и поболее, нежели кожаный мешочек размером с кулак, и всыпала в шафрановый соус, перед тем как им облили подножие сооруженного из поросенка Капитолия. Проносить яд в прическе – дело не новое, знаменитая смесительница ядов Мартина, та самая, что, по слухам, отравила Германика во времена императора Тиберия, всегда носила яды в прическе.