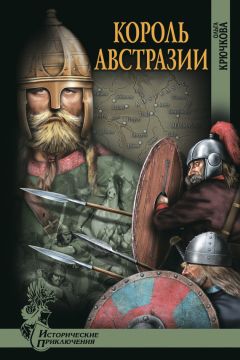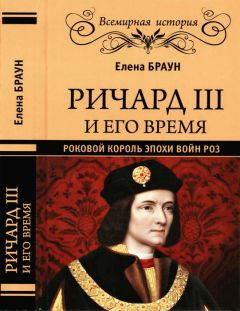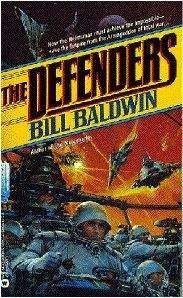Иван Наживин - Кремль
Князь потупился. И вмиг решил: свое он у жизни вырвет! «Сперва спрошу ее… – думал он. – Может, она согласится… А нет, силой возьму и умчу в далекие края… За что, за что мы оба мучаемся?..»
– Сегодня к ночи зайди ко мне… – сказал он нищему и шагнул в калитку.
XX. Ненила
Сиренево-пепельные сумерки спускались на затихающую Москву. Небо и река догорали. В долине Неглинки и за рекой, в Садовниках, по садам боярским соловьи голос подали… Раздвигая душистые заросли черемухи, князь Василий осторожно вошел в небольшой сад Холмского, который для утехи ребячьей был посажен за службами. Василий знал тут каждое дерево, каждый уголок. Вот, как и раньше, стоит и шалаш, который воздвигла детвора, играя «в татаре»: тут они стояли сторожей, чтобы беречи землю Русскую, и, когда те – в воображении – появлялись из-за сонной Москвы-реки, сколько было тут шуму, сколько подвигов знатных, сколько доблестных смертей!.. И, как и тогда, пахло из шалаша горьковатым запахом соломы…
И вот сейчас она выйдет к нему. Казалось бы, какое счастье… Но счастья не было, а была мука мученская… И совесть тревожила: как же можно было так против Андрея идти?.. Но что же делать? Мучаются все трое ведь… Может, если кончится все это, и Андрей счастлив будет… Ах, да что бы там ни вышло, только бы кончилась эта мука!.. И опять отдаленно, точно во сне, вспомнилась зеленая и дикая глушь Заволжья; туда, что ли, убежать от всех этих терзаний мирских?..
В кустах послышался шорох. Сердце его забилось с такой силой, что даже дыханье пресеклось. И вдруг из кустов вышла к нему старая мамка ее Ненила.
– Знаю, княже, что не меня ты, старую, ждешь… – проговорила старуха тихо. – Велела она мне передать тебе, чтобы ничего ты не ждал: не перешагнет она к тебе через грех… Уж так она мучится, княже, так мучится, что и обсказать тебе не сумею… И чего-чего только я не придумывала: и молебны всем почитай святителям служила, и зелий всяких ей против тоски любовной приносила – нет, ничего не помогает! Недавно одну старуху я из Зарядья к ней приводила, Апалитиху, – слыхал, чай? – которая заговорами да травкой пользует. И та, давши в руки ей замок, долго над ней шептала, а потом заперла замок тот, а ключ велела мне в Москву-реку бросить, чтобы поглотила его щука золотая, божественная… И веришь ли, сколько разов к тебе я бросалась: возьми ты ее хошь силой, только душеньку ее от муки ослобони… И назад ворочалась: нет, эту силой не возьмешь… И вот хошь голову с плеч руби, не ведаю, что с ней делать… Себя умучила, мужа умучила, – а и он ведь человек такой, какого другого на Москве, может, и не сыщешь, – и тебе свет Божий не мил.
– А где князь Андрей теперь? – тихо спросил князь.
– Опять за охотой уехал… – сказала Ненила. – И кто это вам всем так жизнь изгадил? Все молодые, все пригожие, все богатые – жить бы да радоваться, а вы все равно в аду кипите!..
И князь думал то же. Но точно вот нетопыри какие впились в сердца их и сосут кровь, и сосут, а зачем – никому не известно!..
– Так попроси ее хоть проститься со мной выйти… – сказал князь. – Великий государь посылает меня с посольским делом на Литву. Кто знает, вернусь ли я оттуда…
– Не пойдет!.. – отвечала Ненила. – Забоится, что уговоришь ты ее… Ни за что не пойдет… Вот, может, куда мы с ней опять на богомолье соберемся – так дала бы я тебе знать, а ты там сам гляди, как и что… Только как сделать-то это? У тебя на дворе мне показываться негоже, а этот Митька твой что-то не люб мне…
– Ничего. За золото он все сделает и будет молчать, а не смолчит, так и подвесить можно… – сурово сказал князь, которому и самому противно было путать во все чужих людей. – Так вот так пока и порешим…
Он подумал было дать Нениле что, но тут же почувствовал, что этого нельзя…
– Ну, прощай, баушка… – мягко сказал он.
– Прощай, княже… Ну только смотри: ничего без ее согласу не делай… Успокой меня, старуху глупую…
– Не бойся!.. – дрогнул он голосом.
И он исчез среди пахучих зарослей черемухи.
Он чувствовал, что какое-то решение судьбы близко. Да, взять ее хоть бы против воли, умчать в далекие края, а там, под поцелуями, отойдет душа ее… И вдруг в узкой улочке его остановил хриплый, пьяный голос:
Эх, уж я улицею
Серой утицею.
Через черную грязь
Перепелицею…
Митька сделал было молодецкую выходку, чтобы показать удаль свою, но его вдруг шатнуло, и он бессильно прилип к забору. Нахмурившись, князь решительно подошел к нему. Тот сразу узнал его и подтянулся.
– Княже, благодетель ты наш… – забормотал он.
– Слушай… – сурово проговорил князь. – Ты мне еще понадобишься. За службу я отплатить сумею. Но если ты, собака, хоть словом одним кому обмолвишься, так и знай: будешь собою раков москворецких кормить… Понял?..
– Благодетель, кормилец, да нешто я…
– Ты понял?
– Понял, благодетель, понял… Да я за тебя в огонь и в воду, а не то што.
Но князь, не слушая, уже ушел. И Митька подмигнул себе:
– Не робей, Митрий Иваныч: теперь будет тебе жизнь боярская!.. На радостях можно и еще хлебнуть винчишка на сон грядущий…
И он неверными шагами направился в ближайший кабак.
Как только татары из Москвы ушли, так сейчас же снова повсюду открылись кабаки и зашумела снова Русь пьяным шумом. Ту дань, что раньше она неволею несла татарам, теперь с полной охотой отдавала она кабаку. Заботники мирские не раз уже делали великому государю представления, что надо пьянство остановить: не пьют же поганые.
– Так ли, эдак ли, а жрать винище они все равно будут… – сказал он. – Так уж пусть лучше оттого государству прибыток будет. Нельзя всякого пьяницу за руки держать: «Не пей, соколик…» А который, напимшись, дурака валять будет, на тех стража есть…
Всю ночь шумно кутил Митька с другими забубенными головушками в царевом кабаке… В отуманенной голове его вдруг встала мысль о Стеше: а по кой пес будет он добывать ее для того же князь Василия, когда он может взять ее и себе… Сперва он даже испугался сам этой мысли, но постепенно она все более и более завладевала дымной душой урода. Кабацким шумом он старался заглушить ее в себе, но чем больше он старался, тем крепче захватывала она его.
XXI. Ночи московские
Вскоре после бескровной победы над погаными великий государь со всем пышным двором своим встречал невесту сына своего Ивана. Вся Москва вышла на встречу красавицы Елены, но увидала только возок ее да вершников вокруг: невеста, чтобы не сглазил ее какой лихой человек, была до глаз укутана фатой. Но ахнул и великий государь, и все ближние бояре его, когда они впервые увидели ее без фаты: высокая, стройная, с горящими, как звезды, глазами и тяжелыми черными косами, она слепила. Улыбка ее была колдовство. Во всем существе ее было что-то до такой степени раздражающее, что даже самые хладнокровные люди чувствовали, что у них кружится голова…
Ивана она огромила. То, чем он до сих пор рядом со своей необъятной волосатой грекиней страдал втайне, теперь вдруг воплотилось в этой девушке, которая весело, точно в пляске какой, вошла в его палаты. К свадьбе он подарил ей ожерелье из голубых алмазов цены неимоверной – из сокровищницы владыки новгородского, смиренного Феофила, – и Елена, принимая подарок свекра, подняла на него восхищенные глаза и чуть вздрогнула: в его страшных глазах она увидала восторг бескрайний. И много дней ходила она после того в задумчивости. Хитренький Иван Молодой сразу подметил впечатление, которое произвела на его родителя Елена, и снова стал охать: он хорошо понимал, что девок-то на Москве всегда найдешь сколько хочешь, а голова на плечах одна…
Иван был точно околдован. Новые жуткие мысли мутили его теперь по ночам, когда рядом с ним среди жарких перин храпела грекиня ненавистная. Вот он великий государь всея Руси, перед которым склоняется в прах все, и все же он не только не может взять черноокой колдуньи, но даже слова ей о том дохнуть не смеет. И кому досталась!.. – с презрением думал он. – Ну, можно убрать с дороги и сопляка этого, убрать эту перину, которая храпит рядом с ним, а дальше опять хода нет и нет!.. Не может же он, великий князь московский и всея Руси, жениться или так овладеть вдовою сына… Тайная тоска его о счастье личном, счастье жарком и ярком, стала теперь еще острее…
Он стал раздражителен. Еще во время свадьбы сына с Еленой дружок его, татарин князь Каракучуй, что-то расхворался: должно быть, на русские меда приналег. При дворе был тогда доктор-иноземец, мессир Антон. Его позвали к больному. А Каракучуй возьми да и помри! Москва зашепталась: «Уморил князя ни за что, немчура!..» Иван выдал немчина головой Каракучуеву сыну. Тот, изрядно его помучив, хотел взять с него только хороший за родителя окуп и отпустить. Но великий государь крепко опалился и приказал немчина казнить. Татары свели его на Москву-реку под мост и там зарезали как овцу… Иван гремел, и никто не знал, почему так гневлив стал великий государь, – никто, кроме Елены, может быть. Она в положенное время родила мальчонку, которого нарекли Дмитрием, резко отдалилась от мужа, легко и смело стала выше этих постоянных испугов московских, и Москва зашепталась: «Балует валашка!..» Она смеялась…