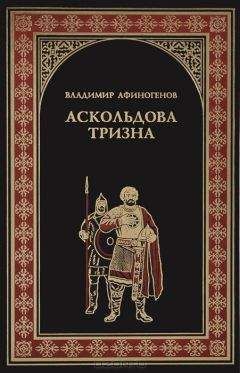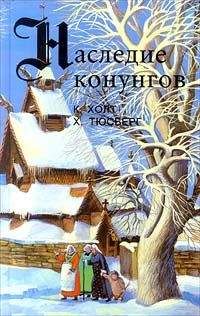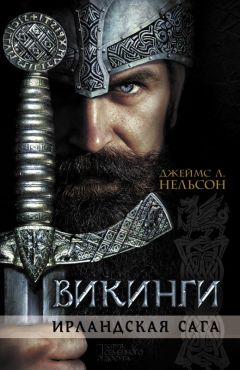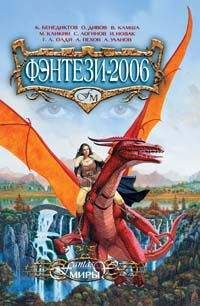Владимир Афиногенов - Аскольдова тризна
Фархад сам происходил родом из племени курайш, а обо всем этом ему рассказывал опальный поэт…
Хочешь Слов узнать секреты,
В их краях ищи ответы, —
Хочешь ли понять поэта,
Так иди в его край света.
С того времени образ поэта Фархад начал сравнивать с образом человека по имени Зу-л-карнайн, о котором Аллах говорит в Коране: «Мы укрепили его на земле и дали ему ко всему путь, и пошёл он по одному пути. А когда он дошёл до заката солнца, то увидел, что оно закатывается в источник зловонный, и нашёл около него людей. Мы сказали: «О, Зу-л-карнайн, либо ты накажешь, либо устроишь для них милость». Он сказал: «Того, кто несправедлив, мы накажем, а потом он будет возвращён к своему Господу, и накажет Он его наказанием тяжёлым. А кто уверовал и творил благое, для него в награду — милость…»
К Фархаду подошёл его боевой друг и спросил:
— Ты ничего не слышал о предстоящем сражении?… Мне сказал муаллим, что надо ждать наступления византийцев со дня на день. В их лагере после отъезда василевса наблюдается особенное оживление…
— Нет, не слышал, — занятый мыслями о поэте, почти непроизвольно ответил Фархад и в свою очередь спросил друга: — А ты не помнишь того слагателя стихов и песен?
— Конечно, помню… Но вроде не к месту ты о нём спрашиваешь.
— Слова его пришли на ум… Хороший он был человек. Жалко его.
— Ты себя пожалей перед боем… Новый доместик византийцев по имени Василий воевать умеет. Мы уже не раз испытали это на себе, когда он водил своих велитов в атаки.
Отпустив послов в Тефрику, посетивших воинский лагерь, Михаил III заскучал основательно. И даже пьяные оргии с пленными рабынями, устраиваемые Вардой, не помогали развеять невесёлое настроение племянника. Он всё чаще говорил о своём отъезде в Константинополь, где с нетерпением ждала его Евдокия Ингерина. Безусловно, василевсу её могли привезти и сюда, но он не хотел сам этого, прежде всего тоскуя по роскоши императорского дворца и бегам на колесницах. Правда, недавно Михаила развлёк маленький Феофилиц, нежданно появившийся в лагере в сопровождении, как всегда, своих гигантов. Напившись, он потребовал, чтобы Михаил и Варда хотя бы на один день поставили его во главе войска, и он бы собственноручно смог повести солдат в бой. Отказаться от этой затеи его еле уговорили, а потом Македонянин постарался удалить Феофилица из лагеря под благовидным предлогом полечиться у знаменитых врачей, так как после беспробудного пьянства у карлика начались подёргивания ушей, которые очень позабавили Михаила III…
И вот василевс собрал коментон, явившись в лёгкой шапочке, обшитой жемчугом, в голубом хитоне с дорогой цепью на шее, — важный и торжественный. До созыва этого военного совета не пил два дня и успел выходиться…
— Друзья мои, настал момент расставания, — взял он с места в карьер. — Благодаря моим… нашим усилиям, — поправился он, — обстановка в лагере для нас благоприятна. Я официально вручаю судьбу своего войска в руки шталмейстера, который, думаю, в скором времени сотворит ещё одну победу… Она нужна, покуда идут переговоры в Тефрике по обмену пленными. Чтобы агаряне и ересиарх Карбеас стали сговорчивее…
После такого сообщения многие украдкой посмотрели в сторону Варды. Тот и бровью не повёл, но взгляд его разом ожесточился и на правом виске заметно запульсировала жилка.
Зато Василий своё назначение принял без суеты и заискивания; он гордо склонил чуть набок голову, поблагодарив тем самым императора.
И раньше Михаил назначал Македонянина доместиком, но только на время боя, находясь рядом и контролируя все его действия. Но отлучаясь из лагеря, как например, при заключении «Договора мира и любви» с Аскольдом и Диром, всё же руководство войском возлагал на плечи дяди. Теперь же — иное дело… Поэтому Василий сейчас испытал скорее чувство тяжкой ответственности, нежели радости, ибо забота о войске, о поддержании его боеспособности, снабжении полностью перешло к нему.
Давно шли разговоры, что арабы после сражений используют копья византийцев; пробивая ту или иную преграду, они остаются годными к употреблению. Василий зашёл в кузницу, где ковали насадки для копий, долго смотрел на работу кузнецов, задумавшись, потом разделся до пояса, взял в руки кувалду. Помахав ею, предложил мастерам:
— Отныне будете закалять только острие. Железную часть, надеваемую на древко, оставляйте как есть…
Когда сделали пробу, Македонянин велел на расстояние одной шестой стадии[51] установить щит. Подбросил в руке копье, оценив его тяжесть, разбежался и бросил. Калёным острием оно пробило щит, но загнулось в железной части у древка, сцепившись со щитом.
Довольно засмеявшись, Василий сказал:
— Так неприятель лишается своего щита и не может уже воспользоваться нашим копьём…
— Ловко! — заключили кузнецы.
И ещё одно новшество ввёл Македонянин.
В глухой обороне при энергичной атаке противника помимо «круга» или «клина» он стал применять «черепаху»; в этом случае первый ряд фаланги держал щиты перед собой, а второй и следующие над головой… И когда натиск врага, натолкнувшись на эту стену, ослабевал, «черепаха» мгновенно распадалась, и византийцы внезапным наскоком разбивали противника на отдельные «островки» и уничтожали.
О том, что доместиком на время отсутствия василевса, назначен Василий-македонянин, сразу же объявили в центуриях и «товариществах».
Василий и без слов императора хорошо понимал важность хотя бы местной победы. Ночью он, сопровождаемый телохранителями, обошёл военный лагерь, устроенный по подобию древнеримского, ещё со времён галльской войны Юлия Цезаря. Византийский лагерь представлял из себя квадрат, одна часть которого предназначалась для доместика, его штаба и гвардии, а другая — для центуриев и вспомогательных войск. Каждая сторона имела свои главные ворота и боковые. Главнейшим пунктом лагеря являлась ставка доместика, перед которой находилось свободное пространство, где собирались солдаты, когда с ними говорил с возвышения полководец или сам василевс.
Квадрат окружался двойным рвом, а земля из него использовалась для устройства вала, палатки солдат были кожаными. Каждые ворота обычно охранял центурий, — Василий в виду близости агарян укрупнил стражу.
Тяжёлая конница до двух тысяч «бессмертных» и лёгкая до десяти тысяч всадников тоже располагались здесь, — лошади питались в основном фуражом: трава в лагере вытаптывалась велитами и терзалась телегами, запряжёнными волами, которые доставляли продовольствие. Находились рядом и боевые колесницы и их экипажи: двое возничих на одну…
Задумал также Василий приспособить к колесницам «греческий огонь» — на конце оглобли, разделяющей попарно четвёрку коней, установить сифон с горючей смесью. В предстоящем бою надлежало этой устройство опробовать…
— Думаешь, выйдет из сего что-то путное? — спрашивает возничий по имени Велизарий другого, которого звали Маркианом.
— Думаю, да… Как говаривал в своё время мой тёзка, император византийский, отвечая предводителю гуннов Аттиле: «У меня золото для друзей, а для врагов железо». А у нас с тобой, Велизарий, будет приготовлен огонь для нехристей… Почище железа!
— Дай-то Христос!
— Эх ты — святой Пётр сомневающийся… — незлобиво укорил друга Маркиан.
…На заре в византийском и арабском лагерях молились, собственно, одному Богу, который у первых назывался Саваоф, у вторых — Аллах. Но вспоминали разных Мессий — Иисуса Христа и Мухаммеда, если отбросить территориальные притязания и человеческие амбиции тоже, то войны не на жизнь, а на смерть между этими двумя народами в общем-то шли из-за различий веры в Бога, который един, только ритуалы его почитания разные…
Христиане считали, что сила их поклонения выше и значительнее, ибо перед глазами у них стоял пример самопожертвования во имя Всевышнего и великого могущества мученика за грехи людские… Мусульмане же видели Мухаммеда, несмотря на его всего лишь купеческое происхождение, стоящим выше над остальными пророками — христианскими, иудейскими и над грозным Буддой, статуи которого представлялись им громоздкими, непонятными и ужасными сооружениями…
Ислам, набросивший мрачные покровы на жизнь арабов, не терпел никакой скульптуры, осуждая изображения людей и животных, в последних признавая только волка, которому Мухаммед повелел трогать лишь овцу богача, собачку, спящую семью снами, и кошечку Абу Хирайры, которую погладил сам пророк. Живопись, как таковую, тоже отрицал, заменив её узорами на толстых коврах, резьбой и мозаикой на стенах мечетей, дворцах халифов и эмиров да цветистыми слева направо письменами…
Вот сейчас, только по-разному, помолятся Богу Велизарий и Маркиан, Фархад и его друг, а был бы с ними поэт, и тот, да и ринутся в кровавую схватку, чтобы проломить булавами друг другу головы или снести их мечом с шеи, как тыквы со стебля, выжечь огнём глаза из сифона или же ископытить…