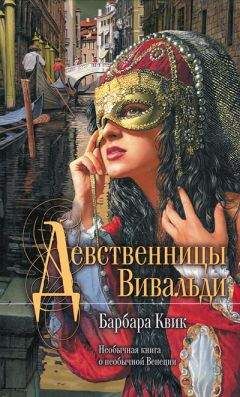Жорж Бордонов - Реквием по Жилю де Рэ
— Я ничего не скрывал! Жил по своим законам. А часовню велел поставить для успокоения собственной души. Во время молитв — а молился я самозабвенно, могу поклясться! — я боготворил младенцев, загубленных Иродом, и тех, которых убил сам. «И те, и другие, — утешал я себя, — жестоко растерзаны, зато теперь они на небесах — сидят по правую руку Отца нашего».
— Что вы такое говорите?
Брат Жувенель закрывает рукой медное распятие — ему не хочется, чтобы Иисус слышал кощунственные речи Жиля и лицезрел его дьявольское обличье. Пусть слова его канут в пустоте, рассыплются в прах или растворятся во мраке, точно хищные птицы, гонимые ночным ветром! Ибо они очерняют вечную, незыблемую Чистоту. Жиль уловил предупредительный жест монаха. И, повернувшись в мрачный угол каземата, резким голосом произнес:
— Да, боготворил! Мне было жаль, что смерть настигла их так рано. Когда меня начинали терзать угрызения совести, я всякий раз обращался к их душам, моля о заступничестве… Угодно ли вам послушать, какие слова я тогда произносил? Слушайте же:
«Милые мои чада, отныне вы все стали ангелами. Так не оставляйте ж меня в час скорби! Царь Ирод убил ваших братьев. А я лишил вас жизни ради того, чтоб вы вознеслись на небеса, в Вечность…» Иной раз мне думалось — не будь я страшным грешником, не убей я их, они остались бы живы, повзрослели и жизнь неминуемо обратила бы их в таких же пропащих, как я сам. Я взывал к ним в безмолвной мольбе: «Малютки мои, теперь вы на небесах. Так возблагодарите же меня за это! Я принес вас в жертву, спас от жизни. Ведь жизнь — это кошмар. А я вернул вас к Свету…»
— Замолчите!
— Я был чудовищем, но во мне жила любовь! Чудовищная любовь! Я любил эти души, чистые, как первый снег…
— Замолчите! Вы одержимы дьяволом — он вселился и в плоть вашу, и в душу!
— Нет!
— Ваше покаяние не от сердца. А от лукавого. И слова эти не ваши, а его: ибо от них веет зловещим мраком и ужасом, они помечены клеймом нечистого! Зная вашу слабость, плотские желания и духовные устремления, он облек ваши сластолюбивые помыслы мистической тайной. Эти богомерзкие службы и песнопения несли вашему сердцу отраду. С их помощью сатана убивал ваши самые благородные чувства, самые разумные мысли, самые возвышенные порывы.
— А что, если я был искренен в своем безумстве?
— Не надо искать отговорки и ложные оправдания.
— Что, если ваш дьявол опять науськивает меня на коварную ложь, которая ввергает вас в такой ужас?
Роже де Бриквиль:
«Жалкий безумец надеялся искупить грехи молитвами и спасти свою поганую душу. А с этими певчими он едва по миру не пошел…»
Бриквиль снимает шлем. Ночной ветер освежает его наголо остриженную голову. А луна высвечивает острый нос, тяжелый подбородок, длинные оттопыренные уши… Он уже два месяца как расстался с богатым платьем и теперь вот подрядился в ночные стражи — днем он отсыпается. Бриквиль сбежал из Машкуля незадолго до того, как Жиля арестовали. Он сбрил бороду и светлую шевелюру, а лицо и руки натер коричневой краской. Нанимаясь охранять этот замок, затерявшийся посреди лесных чащоб, вдали от бретонских городов, он выдавал себя за ландскнехта, пришедшего со стороны Пиренеев. Так что ныне ему приходится прикидываться голодранцем, он должен затаиться на время и блюсти себя в трезвости, чтобы случаем не сболтнуть чего лишнего. Деньги свои он оставил в надежных руках и теперь ждет лучших времен, когда все поутихнет, и ему снова можно будет выползти на свет божий.
Несмотря на то, что замок стоит в лесной глуши, Бриквиль все же прознал о беде, постигшей Жиля. Однако он вспоминает о нем со злорадством, ибо в душе люто ненавидит его.
Бриквиль полон сил, он крепко сложен и высок ростом — сверкающие латы скрывают его тело, сплошную груду мышц. Он вспоминает тепло и уют Тиффожского замка, изысканные кушанья, пьянящие вина и жестокие утехи, без которых не обходилось ни одно застолье. Как ни досадно, а былого уже не вернуть! Бриквиль с рождения был жестоким, хуже зверя.
«Жиль огорчил меня, — размышляет он. — Я-то думал — он сильный, сущий дьявол, а на поверку вышло — так себе, дерьмо собачье. Настоящих мужчин — раз-два и обчелся. И уж они-то не строят часовни. Ежели честно, его сгубила совесть. Чтобы вывести его на чистую воду, понадобилось привлечь к дознанию с полсотни судейских! Жиль совсем рехнулся. От крови, роскоши и веры в своего бога! Будь он похитрее, может, еще и пожил бы, ох как долго пожил. Ан нет, скука смертная, видите ли, его заела. И тут он, конечно, принялся чудить как безумный; ему всегда нужно было много золота, ну прямо вынь да положь — чтобы потом расшвыривать его полными пригоршнями. Целые груды золота. А зачем, скажите на милость? Да чтобы потом раздавать его первым встречным. Одно слово — чокнутый! А всякие там торгаши грели на нем руки — надо же, какой глупец, а тщеславный, спасу нет. Заезжие купчишки совали ему под нос ткани, безделушки всякие и прочий хлам! И он хапал все подряд, даже не торгуясь, — ну разве это достойно благородного сеньора! Когда же сундуки его опустели, он пустился продавать все, что попадалось под руку: книги, серебряную утварь, златотканые ковры. А деньги брал под залог будущих доходов с земель. Брал в основном у ростовщиков. Земли и владения разбазаривал направо и налево, только бы поскорей выручить деньги и тут же пропить и прогулять все. Свое состояние готов был пустить на ветер…
Смекнув тогда, что всякий, кому не лень, может урвать кусок пожирнее, я сказал Жилю, что сам, мол, займусь продажей барахла, чтобы освободить его от лишних хлопот. И вот однажды вечером во время буйного застолья — и на какие только средства: ведь сундуки уж давно опустели, а из-за крепостных стен что ни день, тявкали кредиторы! — я добился-таки того, чего хотел, все честь по чести. Жиль разрешил мне продавать все, что заблагорассудится — не иначе окончательно тронулся! Больше того: он даже решил было выдать за меня свою дочь Марию, а вернее, предложил купить — а впрочем, он продал бы ее любому, кто больше бы дал. Но я не посмел: ведь ей было только шесть лет… А вот золотишком я снабжал его исправно! Если бы погрузить все эти мешки с золотом на повозки, получился бы целый обоз! Вот так, точно масло на солнце, таяло состояние едва ли не самого богатого сеньора во Франции! А мы только веселились. Да набивали карманы — на черный день. А теперь — конец».
Над сторожевой будкой кружат вороны. Стоит глубокая ночь, в небе зависла полная луна. Она выхватывает из тьмы покрытые снегом широкие холмы и одетые в хрустальный иней деревья. Лунный свет падает пляшущими бликами на поверхность воды в крепостном рве. А на глади близлежащего озера серебрится, тая вдали, лунная дорожка. Время от времени на дороге, ведущей в замок, мелькает тень — слышится хруст мерзлого валежника: это, должно быть, кабан или лиса, а может, олень.
Бриквиль вспоминает расшитые золотом гардины, развешанные в залах Тиффожского замка, массивные, украшенные гербами серванты, зажаренных фазанов, выставленных в ряд на застланном роскошной скатертью столе.
«Нет-нет, — думает он, — это еще не конец! Я возьму себе другое имя — Бриквиля больше нет. И прикуплю доброй землицы где-нибудь на юге. Мы еще поживем. А вот другие — как знать!»
Екатерина Туарская:
«Жиль спускал все без разбору, точно безумный. Казалось, будто богатства предков, нажитые с таким трудом, давили на — него тяжким бременем. Дай ему волю, он разбазарил бы и мои земли, и даже наследство родной дочери. Он опять стал обхаживать меня, как обычно, когда ему что-то было нужно, но я уже была не та простушка, что прежде, и пропускала его медоточивые речи мимо ушей. Тогда он услал нас с Марией в Пузож, возрадовавшись, что наконец-то обрел свободу. С той поры я видела его лишь издали, и с каждым днем, как это ни прискорбно, он становился от меня все дальше. Так печально закончилась наша любовь, которая так хорошо началась. Да простит его Господь!»
19
ОРЛЕАНСКАЯ МИСТЕРИЯ
Жиль:
— Спустя время, однако, — продолжает брат Жувенель, — вы охладели к церковной музыке. Неужто вам так быстро наскучили дивные голоса певчих и величественные раскаты органа? По словам очевидцев, вы в то время разъезжали по городам и весям со своей рыцарской и духовной свитой и обозом; где вас только не видели, вы занимали все постоялые дворы, поглощали все запасы продовольствия и разыгрывали представления — мистерии, соти[31], морески[32], моралите[33]. Выходит, прощайте канторы — здравствуйте, шуты, так, что ли?
— Я никого не гнал.
— Ясное дело, монсеньор. Конечно, вы не смели никого прогнать, потому как от излишеств и бесчинств вообще перестали что-либо соображать.
— Просто мне нравилось доставлять людям удовольствие! Приносить радость!