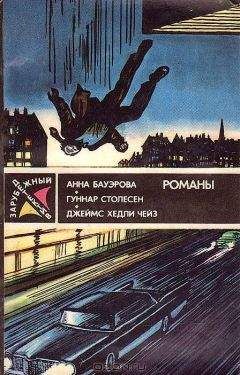Аркадий Ваксберг - ИЗ АДА В РАЙ И ОБРАТНО
«В январе 1935 года на далеком заполярном острове Врангеля – в Восточной части Ледовитого океана – был найден изуродованный труп одного из зимовщиков, врача Николая Вульфсона. Его жена, тоже врач, Гита Фельдман заподозрила, что смерть мужа наступила не в результате несчастного случая (согласно первоначальной версии Вульфсон отправился по вызову больного в пургу на собачьей упряжке, упал, ударился лицом о лед и погиб), а в результате убийства, которое совершил «каюр» (водитель упряжки) Степан Старцев по указанию начальника зимовки Константина Семенчука. С обоими чета Вульфсон-Фельдман находилась в конфликтных отношениях. Вдова написала письмо прокурору СССР Андрею Вышинскому – шло оно бесконечно долго и поспело очень кстати, ибо Вышинский был лучше, чем кто-то другой, информирован о пожеланиях вождя.
В распоряжении следствия (его вел ближайший сподвижник Вышинского – Лев Шейнин, который вскоре станет еще и «писателем») не было решительно ничего, кроме подозрений Гиты Фельдман. На место предполагаемого преступления никто не выехал, труп эксгумации не подвергся, никаких улик в юридическом смысле слова не было и в помине, экспертиза производилась в Москве на основании «чертежей» и «схем», нарисованных самой потерпевшей, при этом эксперты отвечали на чисто умозрительные вопросы следствия и суда: «могло ли быть так, что?..». Экспертами выступали знаменитые и уважаемые полярники, но они исходили не из каких-либо конкретных событий данного случая и предполагаемого способа данного убийства, а лишь из предыдущего опыта своих путешествий по Северу (целый день, например, обсуждался вопрос, как обычно ведут себя собаки в пургу), никакого отношения не имевших к тому, что на этот раз рассматривал суд[2].
Но Вышинскому, или, точнее, тому, чью волю он исполнял, конкретная истина по конкретному делу была совершенно не нужна. Дело служило лишь поводом для решения совсем иной «сверхзадачи». Одно то, что жертвами стали врачи с ярко выраженными еврейскими фамилиями, а «убийцами» – лица с фамилиями совершенно иными, придавало или, точнее, могло придать делу при особом желании определенную национальную окраску. Как раз такое желание у Сталина и было. Притом ему в данном случае нужны были не намеки, не предположения, не чтение между строк, не догадки и загадки, над которыми еще пришлось бы ломать голову, а недвусмысленный открытый текст. Ему было нужно, чтобы каждый понял: Сталин, великий друг и защитник всех без исключения народов, не допустит антисемитизма ни в коем случае. И карать за него будет строжайшим образом – именно так, как и обещал Еврейскому телеграфному агентству США: у товарища Сталина слова никогда не расходятся с делами.
Поэтому мотив преступления, который в другое время и при других обстоятельствах скорее всего был бы зашифрован или заменен каким-то другим, на этот раз нарочито выдвигался и педалировался. Скорее всего, между прочим, и Семенчук, и Старцев были и правда, безотносительно к гибели доктора, привержены «пережитку», который теперь называют ксенофобией, но здесь он использовался явно в спекулятивно-политиканских целях.
Процесс против Семенчука и Старцева состоялся в мае 1936 года. Он длился семь дней и проходил в самом тогда представительном зале Москвы – Колонном зале Дома Союзов на две тысячи мест. (Для судилищ над бывшими руководителями партии и правительства – своими заклятыми друзьями – Сталин выделит только Октябрьский зал Дома Союзов вместимостью в триста человек.) Обвинять подсудимых пришел сам прокурор СССР Вышинский, хотя никогда – ни раньше, ни позже – по делам об убийстве он не выступал и хотя судил Семенчука и Старцева суд не всесоюзной, а республиканской, то есть более низкой инстанции, где главному прокурору страны просто нечего делать.
Это был очень точный, даже можно сказать – блестяще рассчитанный ход. Зловещая экзотичность преступления, якобы совершенного на краю земли под покровом полярной ночи, не могла не привлечь широчайшего внимания. Его загадочность добавила процессу особую остроту. Присутствие Вышинского и его страстная речь, обличавшая не столько подсудимых, сколько антисемитизм, приведший «этих извергов» на скамью подсудимых, придали делу ту масштабность, на которую оно вряд ли потянуло бы, если бы место обвинителя занял другой прокурор.
Подсудимые свою вину отрицали, и никто их не понуждал к самооговору. Уже одним только этим дело существенно отличалось от всех других, так называемых «показательных», рассматривавшихся в те годы при огромном скоплении публики. Прокурорским и лубянским умельцам ничего не стоило выбить у обвиняемых какие угодно признания, но никто не стал тратить на это время и силы: исход дела был предрешен, а упорство подсудимых, отрицавших свою вину, лишь подчеркивало общественную опасность антисемитов, не желающих «разоружаться» перед советским судом. Не случайно еще и то, что защита подсудимых была поручена адвокатам русского происхождения Николаю Коммодову и Сергею Казначееву, дабы избежать прямого русско-еврейского столкновения в суде: типично советское правосознание не допускало возможности защиты антисемитов евреями.
О том, что предметом судебного разбирательства было все же обвинение в убийстве, а не в антисемитизме, устроители процесса, похоже, забыли. Прокурор Вышинский нисколько и не скрывал сверхзадачу процесса. Некоторые пассажи его обвинительной речи почти без утайки свидетельствуют о замысле превратить дело Семенчука и Старцева в своеобразное «дело Бейлиса наоборот». Там надо было любой ценой доказать ритуальный характер убийства, что превращало процесс в антиеврейский, здесь тоже любой ценой надо было доказать «лютый антисемитизм» Семенчука и загадочно покончившего с собой его дружка, биолога Вакуленко, что превращало процесс в проеврейский. «Вся деятельность Семенчука, – вещал Вышинский в обвинительной речи, – была направлена нa подрыв авторитета советской власти ‹…›, представляя собой удар по основным принципам нашей национальной политики, по ленинско-сталинской национальной политике в целом. Семенчук действовал грубо преступно, нарушая все принципы ленинско-сталинской национальной политики, позволяя себе чудовищные извращения указаний нашей партии и вождя народов Союза ССР товарища Сталина. ‹…› Семенчук осмелился не просто игнорировать, а прямо нарушать замечательные указания нашего вождя и учителя о нерушимой дружбе народов нашей страны»[3].
Назойливое повторение жвачки про «сталинскую дружбу народов» свидетельствует о том, что целью процесса был не суд над предполагаемыми убийцами, а суд над бесспорными антисемитами. Но в еще большей мере раскрывают истинные задачи этого показательного процесса те слова, которые Вышинский нашел, чтобы пропеть гимн покойному Вульфсону и его жене. «Единственным человеком, – упоенно вещал Вышинский, привыкший только клеймить, а не восхвалять, – представляющим собой просвет на мрачном, черном фоне этой в моральном отношении сплошной полярной ночи, поднявшим голос протеста, начавшим борьбу и доведшим ее до конца ценою своей жизни, был доктор Николай Львович Вульфсон и поддерживавшая его верная спутница Гита Борисовна Фельдман. Если бы не они, может быть, мы не так скоро и решительно сумели бы вскрыть этот позорный антисоветский гнойник. ‹…› Память о докторе Вульфсоне будет жить в сердце каждого честного гражданина нашей советской земли. ‹…› Нашего восхищения и признательности заслуживает и доктор Фельдман, которую уже после убийства мужа Семенчук и Вакуленко (приятель и собутыльник Семенчука, покончивший с собой и потому не привлеченный к суду. – А. В.) предполагали убить, сговаривались о том, как лучше «убрать эту жидовку», продолжая глумиться над убитым ими Вульфсоном, называя его «грязным жидом» ‹…› Это говорил Вакуленко, а Семенчук его поддерживал, потому что сам вел такую же линию…»[4]
За всю российскую историю – досоветскую, советскую и постсоветскую – ни одного подобного процесса, на котором с главной трибуны страны власть столь громогласно и столь страстно обличала бы антисемитизм, не было и скорее всего не будет. Казалось бы, какие еще нужны доказательства для того, чтобы показать всю несовместимость большевизма в его сталинском варианте и антисемитизма? Но пропагандистская нарочитость выпирала столь сильно, что и в те, сохранившие революционный романтизм, времена он был очевиден для всех, кто не был полностью ослеплен и зашорен. Когда я впервые рассказал в советской прессе периода перестройки об этом, совершенно неведомом новым поколениям, деле[5], пришло много писем от тех, кто еще помнил тот громкий процесс. Все они утверждали, что искусственность процесса и фальшивый пафос обвинителя были для них очевидны еще и тогда[6]. Один из моих корреспондетов, врач ленинградской скорой помощи Михаил Голощекин, встречался с Гитой Фельдман в пятидесятые годы, работавшей уже в московской больнице имени Боткина. Хотя Вышинский не скупился на лестные слова об этой «хрупкой, но героической женщине», она отзывалась о нем весьма нелестно. Принимая ее накануне и после процесса, говорил с ней грубо и оскорбительно[7].