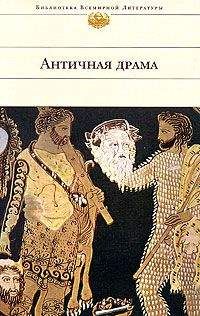Анри Бошо - Антигона
К. становилось все хуже; однажды ночью у него началось сильное кровохарканье, и наутро он не смог подняться с постели.
— В Фивах, — сказал мне Железная Рука, — К. скоро умрет, ему нужно как можно скорее вернуться в горы, к Клиосу.
— Ты пойдешь с ним и будешь ухаживать за ним?
Железная Рука грустно, но покорно взглянул на меня.
К. понимал, что с ним происходит.
— Здесь, — сказал он, — я и правда больше месяца не протяну, два — самое большее, но здесь я рядом с тобой, я еще могу быть полезен. Если же мне удастся добраться до Клиоса, я смогу прожить еще год, может, больше, но оттуда я вряд ли смогу тебе помогать.
— Сможешь. Твоя жизнь — вот что для меня важно. Отправляйся к Клиосу с Железной Рукой, а мы будем думать о тебе.
Я рассказала все Исмене, и она, как всегда, придумала, как им уйти. Печать, которую Полиник дал мне у себя в лагере, поможет К. и Железной Руке пройти через дозоры, и воины Полиника их не тронут. А другую печать — чтобы им была обеспечена защита фиванского войска и их союзников — даст им Этеокл. К ней он добавит легкую телегу, на которой К. сможет лежать, и хорошую лошадь.
Накануне отъезда К. долго говорил со мной, он настаивал, чтобы, отвезя его к Клиосу, Железная Рука обязательно вернулся в Фивы. Я не хотела этого — Железная Рука должен остаться у Ио и ухаживать за ним, а также он должен помочь Клиосу довести до конца тот великий проект и вырубить в горном склоне рисунок Эдипова пути вокруг Афин. Это очень важное дело, даже если мы пока не можем понять его значения. Я напомнила К., что подумал Этеокл, разглядывая ту модель, которую отправил мне Клиос: по этим полукружиям, которые, все расширяясь, поднимаются вверх, можно идти, на них можно сидеть, можно ждать и увидеть какое-нибудь действие.
— Какое? — спросил К.
— Еще не знаю. Действия, события могут так быстро случаться в жизни. Утром я видела Иокасту, в глазах ее было отчаяние, но для меня, как и для других, она все еще была царица, прекрасная. Час спустя она уже была мертва, а мой отец выколол себе глаза. Часть моей жизни разбилась тогда, но это произошло так быстро, что я не смогла ничего понять.
— В этом месте можно будет понять?
— Может быть, лучше понять. Разве дети, играя в волка, не учатся понемногу, как нужно от него защищаться?
Глаза К. блеснули: не суждено ли его ясновидящему взору проникнуть туда, куда я лишь смущенно заглядываю? А поскольку К. молчал, я добавила:
— Может быть, тебе суждено найти там смысл этого места, или же мы, думая друг о друге, найдем его вместе. Для этого и нужно, чтобы ты жил и чтобы Железная Рука оставался с тобой. Это и есть самое важное.
— Почему?
— Я пришла для этого.
Я не поняла, что сказала; мне показалось — кто-то другой говорил вместо меня, но К. согласно прошептал:
— Да, для этого.
Его отъезд, который был намечен на следующий день, был для него тоже большим горем. Продолжительный приступ кашля не давал К. говорить; когда же он пришел в себя, то прошептал:
— Ты можешь рассчитывать на Васко, друга Этеокла, и его юных друзей, он обещал. Он появится, когда нужно, ты можешь ему доверять.
Гемон с Этеоклом не успели еще вернуться из последней своей вылазки, и только мы с Исменой провожали К. и Железную Руку до ворот.
Идя рядом с ними, я думала, сколько теряю с их уходом: веселую силу и доброту Железной Руки, взгляд К., точность его резких советов, его молчание и пение — пел он теперь шепотом, но пение это возвышало мою душу. Я с великим трудом сдерживалась, чтобы не заплакать, К. видел это и стал торопить, приближая наше расставание. Он взял мою руку и поцеловал ее по-своему — легким касанием губ, склонился к Исмене и что-то шепнул ей на ухо. Мне показалось, что она вот-вот расплачется, но она, как Иокаста, выпрямилась и сдержала слезы.
Мы обняли Железную Руку, и он по знаку К. вскочил на телегу, и она накренилась.
Долго мы следили, как терялась из виду телега, и в конце концов Исмена потащила меня в обратную сторону — домой, печальной дорогой.
— Что тебе сказал К? — спросила я.
— Он сказал: «Береги ее», — тут же ответила она.
— Ты едва не заплакала, почему?
— Потому что я не смогу тебя уберечь, ты не хочешь, чтобы тебя берегли. Если только помочь… немного. Для меня отъезд К. тоже большая потеря, для Этеокла — тоже, он стал его лучшим советником, Полиник не единственный Этеоклов противник.
Больных становилось все больше, число их увеличивалось с каждым днем. Если в первые дни я страдала от одиночества, то теперь стала понимать, насколько мне не хватает привычной помощи. Железная Рука каждый день отбирал больных, впускал их лишь в определенное время. Если он в чем-то сомневался — отправлял некоторых к К., чей проницательный взгляд и совершенно незамысловатые вопросы быстро выявляли притворщиков. Таким образом, ко мне приходило определенное число больных, и у меня хватало времени их осмотреть, выслушать, помочь. По вечерам Железная Рука помогал мне в приготовлении лекарств.
Я совершенно не могла поддерживать порядок, что завели мои друзья. Больных становилось все больше, они стали приходить раньше, уходить позже, ссорились и даже дрались из-за того, кого будут осматривать первым. Некоторые из них были так голодны, что вырывали овощи, посаженные Железной Рукой, таскали еду, но мне при виде такого несчастья не хватало смелости остановить их, и часто я оставалась голодной сама.
Исмена нередко приходила ко мне, мой деревянный дом все больше нуждался в присмотре — грязь, беспорядок, и она заметила это.
— Это выше твоих сил, — сказала она. — не следует все делать самой, некоторые лекарства можно заказывать на рынке, для бедных надо организовать раздачу супа и хлеба.
— На какие деньги?
— На те, которые дал тебе Этеокл.
— Я сохранила их и хочу ему вернуть, мне кажется, так будет честно.
— Глупости. Ты эти деньги заработала; раз не хочешь тратить их на себя, потрать на своих больных.
Я отдала ей деньги, и каждый день в полдень Исмена была уже у меня. Она собрала торговцев, которые приносили ей лекарства, другие — доставляли хлеб и провизию для супа, предназначенного — под ее контролем — к раздаче, и я могла заниматься только больными. Удивительно, как Исмена умеет восстановить порядок, разрешить споры, когда становится невозможным разделить суп и хлеб. Ее смех и шутки снимали напряжение, а воров и мнимых больных она добром заставляла уйти.
Когда распределение еды заканчивалось, Исмена приходила ко мне, отправляла последних больных, садилась рядом, протягивала раковину, до краев наполненную супом, который я должна была съесть при ней. Разговаривали мы мало, но между нами восстановилась давняя близость, и это было очень приятное время. Иногда, когда мне не хотелось есть, она заставляла:
— Доедай, пока есть, что есть, вечером ничего не будет: ты опять все раздала. Гемон бы очень рассердился, узнай он об этом.
— Мне кажется, он так далеко… ты думаешь, он вернется?
— Ты так думаешь, потому что слишком устаешь. Мне и двух часов тут хватает, чтобы вернуться домой без сил. А ты проводишь здесь целый день — не понимаю, как ты выдерживаешь.
Исмена поцеловала меня и ушла, но я чувствовала, несмотря на ее легкую походку и улыбающееся лицо, что она взволнована не меньше моего. Больных и голодных, которые приходят прямо с самого утра, с каждым днем становилось все больше, Этеокловы деньги быстро таяли, сам он не возвращался и дать нам, как обещал, еще денег не мог. Каждый день мне казалось, что на следующий день нечего будет есть, и тем не менее с помощью неизвестных добродетелей — кто предупредил их о наших бедствиях? — удавалось наскрести что-нибудь на обед.
Однажды вечером, когда я была одна и готовила лекарства на следующий день, передо мной появился слепец и заявил:
— Позаботься обо мне, как ты заботилась о своем отце, ты знаешь, как обходиться со слепыми. Мне сказали, что у тебя есть небольшая мастерская, где ты больше не работаешь. Сделай мне там постель — видишь, я не прошу тебя постелить мне в доме. Начинает холодать, и не годится мне в моем возрасте (да, мне столько же лет, сколько Эдипу) спать на улице в такую погоду. Я знаю почти все Эдиповы просоды, позаботься обо мне, и я их тебе исполню.
Я сразу же почувствовала, что он играет под Эдипа: роста он такого же высокого, на глазах такая же повязка, ходить он научился такими же широкими нетвердыми шагами и говорит отрывисто, но он что-то видит, он не слепой. Он притворялся, и его притворство растрогало меня, потому что из-за него мне вспомнился отцовский образ. У меня родилось такое чувство, что перед этой смесью правды и притворства я могу по-новому понять Эдипа, не только вспоминая его, но и не позволив себе утонуть в его отсутствии или в восхищении им.
Я сделала, о чем просил этот человек: устроила ему ложе в мастерской, где уже не успеваю — это правда — ничего делать, и отдала остатки хлеба.