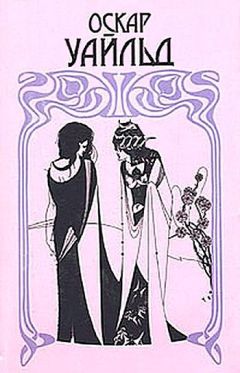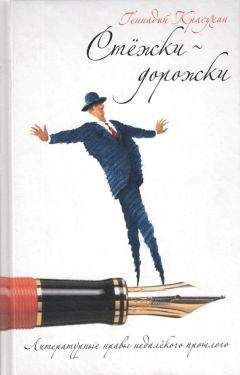Пол Догерти - Тёмный рыцарь
— Ты заставил землю содрогнуться и разверзнуться… — пели монахи.
Да уж, Уокин и впрямь сумел поколебать мир и спокойствие в Ордене рыцарей Храма. Де Пейн с Майелем не уберегли графа Раймунда, а у Тремеле не осталось иного выхода, кроме как направить их в Хедад, чтобы выяснить, не причастны ли к этому убийству ассасины. Вполне естественно, что в это посольство включили именно их. Оба они были очевидцами покушения на графа Раймунда, а присутствие де Пейна, кроме того, было проявлением уважения к Низаму, которого связывали с основателем Ордена тамплиеров особые отношения. То же можно сказать и об их миссии в Триполи: опять-таки, естественный жест уважения к графу, и к тому же, Майель был способен опознать своего земляка.
— И велел ты нам пить вино, которое затуманило наши головы…
Пейн усмехнулся. Возможно, туман у него в голове как раз несколько развеется. Возможно, его присутствие в Триполи было рассчитано на то, чтобы отпугнуть заговорщиков: ведь не посмеют же те напасть на повелителя франков, которого охраняют рыцари Храма, тем более что один из этих рыцарей принадлежит к семейству де Пейн! В конечном итоге этот расчет оказался ошибочным.
— Слава Отцу и Сыну и святому Духу, — выводили монахи.
«А как же остальные детали заговора?» — подумал де Пейн. Беррингтон был захвачен в плен и очутился в Аскалоне. Именно он отвечал за сопровождение Уокина. Вполне разумно было послать его в Англию вместе с Байосисом изловить Уокина и выделить в помощь ему Майеля с де Пейном. Майель англичанин, а имя де Пейн должно, опять же, показать английской короне, насколько серьезно орден относится к этой миссии.
— Боже наш, пребудь во святом храме Твоем! — слаженно звучал хор братии.
Монахи теперь переходили к следующему псалму, но де Пейн был погружен в свои мысли, глядя на удивительную резьбу на капители соседней колонны — увитую листьями фигуру сказочного дикаря. Рыцарь решил оставить воспоминания о прошлом и поразмыслить над тем, что происходит в настоящее время. Оставались две нерешенные загадки. Во-первых, где же Уокин и ведьма Эрикто? Пока не обнаружилось ни малейших доказательств того, что они обретаются в Англии. Во-вторых, этот скрытный генуэзец Тьерри Парменио — кто он на самом деле? Как он оказался в Триполи и что там делал? И отчего ему так доверял Тремеле?
— И проливали в Иерусалиме кровь нашу, как воду, — произнес речитативом ведущий голос, — и не осталось из нас никого, чтобы похоронить убитых.
Де Пейну вспомнился Иерусалим, и он, раскаиваясь, ударил себя кулаком в грудь: рыцарь чувствовал себя виноватым перед Тремеле. Глуп и высокомерен был Великий магистр, однако ничто не свидетельствовало о его коварстве. Более того, если уж Тремеле доверял Парменио, почему бы и де Пейну не положиться на него? Да, еще и тот тайный шифр — почему и для чего дали его Эдмунду? Зачем Низам так настойчиво стремился сообщить ему нечто, но облек это нечто в такую форму, что Эдмунд бессилен постичь смысл? Де Пейн повертел головой, глядя по сторонам. Ему бросилась в глаза отмерявшая часы свеча, установленная на большой бронзовой подставке у входа на хоры. Рыцарь поспешно осенил себя крестным знамением и преклонил колена: свеча догорела почти до кольца, означавшего следующий час. Пора было идти.
В монастырской трапезной — длинном зале с выбеленными стенами, где надо всем царили два огромных черных распятия, закрепленные на обеих торцевых стенах, — ощущался дух праздника. Пол был устлан камышом, посыпанным свежесорванной травой. Грубо сбитые столы покрыли плотным белым полотном, а в центре каждого установили серебряную резную статую, изображающую Пресвятую Деву с младенцем Иисусом. Приор распорядился выставить лучшие приборы из запасов монастыря. От расставленных под окнами бочонков с целебными травами распространялись тепло и тонкое благоухание. Король Стефан прибыл без особой торжественности. Его бледное лицо под копной рыжих волос было изможденным, он часто моргал, посверкивая своими зелеными глазами, и теребил аккуратно подстриженные усы и бородку. Король снял свой легкий доспех, бросив его на руки улыбающемуся оруженосцу, потянулся и зевнул, потом омыл руки и лицо, шумно плескаясь в услужливо поданном тазу с розовой водой. Сын короля, Евстахий, одетый так же, как и король, был копией отца, разве что казался еще угрюмее и был более сдержан в общении. «Вот по-настоящему беспощадный человек!» — решил де Пейн, приметив надменно оттопыренную нижнюю губу и бегающий взгляд: глаза Евстахий то и дело отводил в сторону, словно взвешивая все увиденное и услышанное. Серое лицо Генриха Мюрдака, архиепископа Йоркского, высшего церковного иерарха в свите короля, было чисто выбрито, черные волосы окружали аккуратную тонзуру. Одет он был в белую рясу монаха-цистерцианца, его солидное брюшко перетягивала веревка с серебряными кистями,[83] на ногах — черные сандалии.
Главный советник короля Симон де Санлис, граф Нортгемптон, был седовласым бородатым мужчиной с изборожденным морщинами лицом воина с грубоватыми чертами; глаза его за дни нынешней осады покраснели от дыма костров. Едва переступив порог, Нортгемптон зычным голосом потребовал вина. Поскольку вино принесли недостаточно быстро, он схватил с подноса в оконной нише высокую кружку и опорожнил ее одним духом. Желтые капли повисли на его усах, бороде и на воротнике отделанного золотом кафтана.
Королевскую свиту де Пейн уже видел раньше, у стен замка Гиффорд. Король, внимательно следя за передвижением противника на противоположном берегу, лично командовал стрельбой катапульт. Теперь же и он, и его спутники изнемогали от голода и жажды, им не терпелось приняться за еду. Приор произнес краткое благословение и удалился, притворив за собой дверь трапезной; пир начался. Блюда быстро сменяли друг друга: суп из перепелов, оленина с пряностями, молочный поросенок, запеченный с фруктами и овощами, говядина, тушенная с имбирем и тимьяном. Несмотря на голод и усталость, Стефан не забывал об учтивости, улыбался де Пейну и его спутникам, особое же внимание уделял Изабелле. По такому торжественному случаю она нарядилась в роскошное синее платье с высоким воротником и парчовым лифом; ее длинные пшеничные волосы были заплетены в косы, перевязаны зелеными лентами и украшены серебряной диадемой. Мюрдак и Нортгемптон были столь же учтивы, как и король, а вот Евстахий был зол и вспыльчив, как дикий кабан во время гона. Судя по всему, он накануне поссорился с отцом и его советниками и за столом продолжал спорить с ними. На выручку Уоллингфорду двигался Генрих Плантагенет с большим войском. Король, не уверенный, что сможет противостоять такой силе, решил снять осаду крепости и искать мира с соперником — это решение Евстахий и оспаривал столь яростно. Нортгемптон и Мюрдак пытались прервать поток его горячих упреков, заявляя, что у короля нет другого выхода, потому что его сподвижники-бароны устали от войны и хотят увести свои войска. Более того, Генрих может сейчас оказаться уступчивым в переговорах. Евстахий не желал ни с чем соглашаться, он грозил, что уведет от Уоллингфорда свое войско и станет нападать на вражеские силы в Восточной Англии.
С этим король был склонен согласиться, он поинтересовался мнением де Пейна и остальных присутствующих. Тамплиерам не хотелось ввязываться в эту дискуссию. Стефан, беспрестанно моргая, обратился к Беррингтону, де Пейну и Майелю: если Евстахий и вправду уведет своих воинов, согласятся ли рыцари хотя бы сопровождать его в восточные графства? Мюрдак и Нортгемптон уже согласились. Де Пейн смутился и не знал, что отвечать. Он взглянул было на Байосиса, чтобы узнать его мнение, но английский магистр ордена хранил молчание; его что-то беспокоило — казалось, он весь сосредоточен на какой-то тайной боли. Беррингтон осторожно заметил, что Орден рыцарей Храма неизменно соблюдал нейтралитет на протяжении всей гражданской войны. Евстахий заорал, что нейтралитета не бывает, а Стефан со всем красноречием и при поддержке Мюрдака стал убеждать: единственное, чего он желает, — это чтобы рыцари Храма служили его сыну в качестве посредников и давали здравые советы в вопросах стратегии.
Евстахию не терпелось услышать ответ тамплиеров. Он весь день спорил и ссорился с отцом, и вот теперь он понимал: если рыцари Храма согласятся на это предложение, отец даст ему свое благословение. Наконец Беррингтон уступил, и лишь когда дело было улажено, король перешел к вопросам, касающимся миссии тамплиеров в Англии. Он напомнил Байосису о многочисленных пожалованиях земельных владений ордену и в Лондоне, и в прилегающих графствах, и недоумевал: отчего же кто-то из рыцарей Храма желает причинить ему зло? Байосис, с побелевшим лицом, схватился за живот и молча указал на де Пейна и Беррингтона, прося их все объяснить. Де Пейн кивнул товарищу, поскольку сам все еще находил французский язык норманнов в Англии отличным от того, на каком говорили в Палестине. Этот был более точным и резким, не смягченным оборотами лингва-франка, распространенного на берегах Срединного моря. Парменио раньше говорил им, что это явление отражает изолированность английского двора; в ходе рассказа Парменио обнаружил также свое знакомство с разговорным саксонским — широко распространенным в Англии наречием простонародья — и развлекал товарищей, копируя этот язык. Сейчас же генуэзец сидел с каменным лицом, пока Беррингтон говорил о происшедших событиях. После рассказа в трапезной воцарилась полнейшая тишина. Даже Евстахий ненадолго оторвался от вина, которое оставило поблескивающий след на его нижней губе. Он заявил, что, по общему мнению, храмовники не уступают в свирепости ассасинам, и если по королевству блуждает отступник, жаждущий крови короля, это куда опаснее любых вражеских стрел. Нортгемптон сразу поддержал принца, отметив, что в этом окутанном туманами королевстве покушения стали самым обычным делом. Парменио уже говорил своим спутникам, что три потомка великого Завоевателя, в их числе и король, умерли при загадочных обстоятельствах в Нью-Форесте,[84] а нынешняя гражданская война разразилась вследствие того, что единственный брат Матильды, принц Вильям, утонул в Узком море при покрытом тайной крушении своего «Белого корабля». Если верить генуэзцу, многие утверждали, что смерть принца, как и ряд других смертей, была делом рук Князя тьмы. Евстахий напоминал об этом собравшимся, без конца прерывая рассказ своими замечаниями. Когда Беррингтон умолк, король принялся постукивать пальцами по своему кубку.