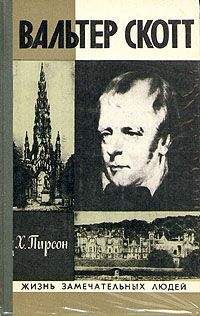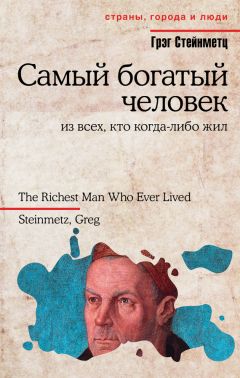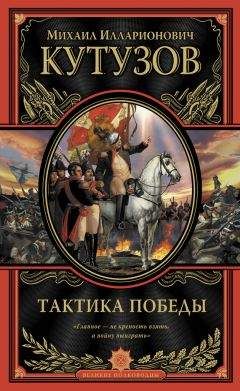Хескет Пирсон - Диккенс
Был у Диккенса любимец — ручной ворон, выведенный в романе под кличкой «Грип». В марте 1841 года птица испустила дух, и Диккенс поделился этой новостью с Маклизом: «Несколько дней (как я говорил уж Вам давеча вечером) ему нездоровилось, но мы не ждали рокового исхода. Мы предполагали, что где-то у него внутри, возможно, осталась часть белой краски, проглоченной прошлым летом, но что серьезных осложнений в его организме она не вызовет. Вчера во второй половине дня ему стало настолько хуже, что я послал за лекарем (фамилия джентльмена мистер Херринг), который незамедлительно явился и закатил пациенту лошадиную дозу касторового масла. Лекарство оказало столь благоприятное действие, что к восьми часам вечера он был уже в состоянии больно ущипнуть Топпинга. Ночь прошла тихо. Сегодня на рассвете ему, по всей видимости, стало лучше. Он получил (по предписанию врача) новую порцию касторового масла и закусил — весьма обильно — теплой кашкой, которая явно пришлась ему по вкусу. К одиннадцати часам ему стало настолько хуже, что необходимо было обвязать тряпкой дверной молоток на конюшне. Приблизительно в половине двенадцатого слышали, как он что-то говорил с самим собой о лошади, о семействе Топпинга, прибавив несколько неразборчивых фраз, вызванных, как предполагают, либо желанием распорядиться своим небогатым имуществом, состоящим главным образом из монеток в полпенса, зарытых в различных частях сада. Бой часов ровно в двенадцать, казалось, слегка взволновал его, но он быстро овладел собой, прошелся два-три раза по каретному сараю, остановился, прокашлял что-то, качнулся, воскликнул: «Здорово, старушка!» (любимая его фраза) — и умер». Дальнейшие подробности Диккенс поведал Ангусу Флетчеру: «Полный подозрений к мяснику, который, как говорят, грозился прикончить птицу, я приказал вскрыть труп. Следов яда не было: по-видимому, он умер от гриппа. Он оставил после себя значительное состояние, главным образом в виде кусочков сыра и медяков достоинством в полпенса, зарытых в разных частях сада. Новый ворон (новый у меня есть, но он сравнительно невысокого умственного развития) взял на себя заботы о его имуществе и каждый день добывает что-нибудь новенькое. Последней из фамильных драгоценностей всплыл внушительных размеров молоток, украденный, очевидно, у злопамятного плотника, который, как передают, мрачно поговаривал на конюшне о мести... Добрые христиане в таких случаях говорят: «Быть может, все это к лучшему». Стараюсь и я так думать. Он в клочья изорвал обивку нашей коляски и склевал всю краску с колес. За лето, пока мы жили в Бродстерсе, он, чего доброго, мог бы слопать коляску целиком».
В начале октября 1841 года Диккенс перенес крайне болезненную операцию: «На меня напал недуг, именуемый фистулою — последствие того, что я слишком долго просиживаю за письменным столом». Макриди пережил «адские муки», только слушая рассказы больного о его страданиях, но Диккенс быстро поправился и в начале ноября уже послал в типографию последнюю порцию «Барнеби Раджа».
Сюжет новой книги захватывающе интересен, но, несмотря на это, «Барнеби Радж» не пользуется такой популярностью, как другие диккенсовские романы, и читают его нынче меньше других его книг, если не считать «Тяжелых времен» и неоконченного «Эдвина Друда». Нет нужды задаваться вопросом, отчего это произошло. Нас главным образом занимает в каждой книге Диккенса лишь то, что открывает что-либо новое в его биографии. Так, в «Барнеби Радже», несомненно, самое замечательное — это фигура Саймона Таппертита. Никто еще не оценил по достоинству диккенсовского дара предвидения, а между тем создание портрета подмастерья Габриэля Вардона — самое поразительное пророчество, какое знала когда-либо история литературы. Таппертит — это комический гимн «маленькому человеку», написанный за целое столетие до того, как «маленький человек» добился всеобщего признания, иными словами — за столетие до того, как он уверовал в собственное величие, создал свой образ в мире искусства и в жизни и поклонился ему.
Ему «на самом деле лишь двадцать лет, на вид — гораздо больше, а апломб у него такой, будто он прожил на свете по меньшей мере лет двести». В его тщедушном теле живет «честолюбивый, жаждущий власти дух. Подобно иным напиткам, что бродят в тесных бочонках, волнуются и клокочут во чреве своих темниц, душа мистера Таппертита, его мятежный дух, бывало, взыграет в недрах бесценного сосуда — тела мистера Таппертита, вспенится и, наконец, с силой вырвется наружу шипучим, кипящим, сметающим все на своем пути потоком». Голос его, от природы пронзительный и резкий, становится, когда нужно, хриплым и грубым. У мистера Таппертита есть свои «идеи, величественные, но туманные... относительно силы его взгляда», проникающего в самую душу человека. Он может вдруг сморщиться, скривиться, скорчить «невероятную, чудовищную, немыслимую гримасу», но может держаться и иначе. Когда в кругу собратьев-заговорщиков он вершит дела общества «Рыцарей-Подмастерьев» (а он душа этого общества и его глава), он складывает руки на груди, хмурит брови, напускает на себя замкнутый и величавый вид, держится в высшей степени отчужденно и загадочно и внушает трепет собравшимся в погребе членам общества. «Ветрогоны! Гуляки!» — желчно бормочет он, услыхав, как его единомышленники играют в кегли. Подмастерья чтят Конституцию, Церковь, Государство и Прочный порядок, но отнюдь не своих хозяев. Их главарь вслух сокрушается о том, что прошли времена, когда по улицам расхаживали с дубинками и избивали почтенных горожан. В их обязанности входит досаждать, задевать, обижать и мучать тех, кем они недовольны, заводить с ними ссоры. Вожак обещает им, что сумеет залечить раны своей злополучной страны. «При новом общественном строе о вас не забудут, я об этом позаботился, — говорит он влюбленной в него девице. — Вы ни в чем не будете нуждаться, понятно? Устраивает это вас?» Он размышляет и над собственной участью, предрекая себе великое будущее: «Влачить бесславное существование, когда все человечество и не ведает о тебе? Терпение! Меня еще ждет слава. Недаром внутренний голос, не переставая, нашептывает мне, что я стану велик. Близок день, когда я взорвусь, как бомба, и тогда кто осмелится усмирить меня? Как подумаешь, сразу кровь бросается в голову. Эй, там, еще вина!» Когда, наконец, приходит время действовать, он восклицает: «Моя страна истекает кровью. Она призывает меня. Иду!»
В самом Диккенсе было немало таппертитовских свойств, оттого ему и удалось с таким безошибочным чутьем и блеском изобразить характерные особенности «маленького человека», отравленного манией величия. Но прежде всего Диккенс был гениальным художником — вот почему он воплотил образ Таппертита в жизненной, конкретной форме, придал ему чаплиновские черты, сделал его смешным. Если бы писатель родился столетием позже и увидел детище своей фантазии во плоти, он написал бы его более мрачными красками и сделал бы менее забавным.
А он сам? «Каждый день жду, что вот-вот поседею, и почти совсем убедил себя, что страдаю подагрой», — вот что сказал двадцатидевятилетний автор в феврале 1841 года, глядя на своего новорожденного отпрыска, четвертого по счету. Да, будущее семьи уже начинало тревожить его. И хотелось отдохнуть. Нам известно, какими радикальными были его взгляды на политическую игру внутри Англии, но он чувствовал, что где-то есть иной мир, который нужно завоевать; страна, где царит равенство. И заработать в этой стране легче, чем дома. Деньги были залогом свободы действий, и Диккенсу нужно было получить этот залог. Но не вогнать же себя в гроб работой! «Славу богу, что есть на свете земля Ван-Димена. В этом мое утешение, — писал он Форстеру. — Интересно знать, хороший ли из меня получится поселенец! Допустим, я возьму с собой голову, руки, прихвачу ноги и здоровье и уеду в новую колонию. Сумею ли я пробиться к горлышку кувшина и жить, попивая сливки? Как, по-Вашему? Сумею, честное слово!» Ему запала в голову мысль съездить в Америку, и, когда из дальних поселений Соединенных Штатов к нему прилетали восторженные письма, он отвечал тепло и сердечно: «Милые слова привета и одобрения, прозвучавшие из зеленых лесов на берегах Миссисипи, проникают в сердце глубже и радуют больше, чем почести всех королей Европы. Если в каждом глухом углу огромного мира живет хотя бы один доброжелатель, близкий тебе по духу человек, — это действительно достойно называться славой, и я не променяю ее ни на какие богатства». Осенью поездка в Америку стала его навязчивой идеей: «Мечты об Америке преследуют меня днем и ночью. Досадно было бы упустить эту возможность. Кэт плачет горькими слезами, если я завожу разговор на эту тему. И все же, бог даст, я думаю, что это как-то должно уладиться!» Вашингтон Ирвинг уверял его, что поездка по Соединенным Штатам будет сплошным триумфом, и это окончательно решило дело: «Я намерен поехать в Америку. Отправляюсь (если богу будет угодно) после рождества, когда плыть безопасно», — писал он Форстеру аршинными буквами. Ему пришлось попросить Макриди написать Кэт, продолжавшей рыдать при одном упоминании о поездке, и возможно более убедительно изложить доводы ее супруга. Макриди согласился. Больше того, он предложил Кэт, что на это время возьмет на себя заботу о детях. Кэт сдалась. Было решено, что вместе с ними поедет ее горничная Энн. В дом пустили жильцов, слуг отдали в распоряжение братца Фредерика, и Диккенс написал в Америку: «На третьей неделе нового года... надеюсь вступить на землю, по которой много раз бродил в мечтах и чьих сыновей (и дочерей) жажду узнать и увидеть».