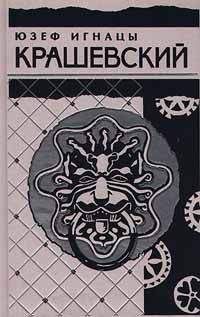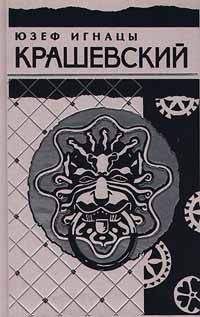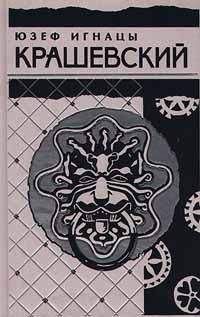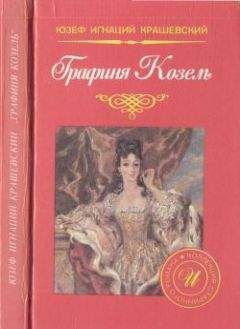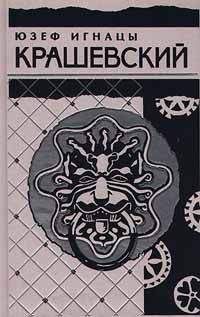Юзеф Крашевский - Осада Ченстохова
Мрачно прошел вечер в лагере; хотя бутылки и стаканы ходили вкруговую в нем, хотя граф старался развлечь и развеселить шведа, но тот продолжал сумрачно молчать.
— Немного терпения, генерал! — сказал Вейхард в конце концов, уязвленный постоянными упреками, — я говорил и повторяю, что долго это длиться не может и монахи на коленях будут просить у нас милости. Наконец, найдем же мы способы с ними управиться.
— Да! Когда доставят большие орудия.
— И без этих орудий обойдется, — многозначительно возразил Вейхард, — посмотрим…
— И без орудий? — спросил Миллер, — а что же их заменит?
— Есть разные способы ведения войны, — таинственно сказал граф.
— Например? — спросил Горн, кшеницкий губернатор, молчаливый швед, не любивший Вейхарда, — например, граф? Благоволите научить нас.
— Нет надобности их перечислять… — возразил чех, — ведь все мы одинаково знаем, что воюют не только пулями. Больше я сейчас сказать не могу.
Миллер махнул рукой и насмешливо расхохотался.
— Всегда ты обещаешь нам золотые горы, которые оказываются скользкими и скалистыми, как и здесь. Теперь уже не поверю тебе. Ченстохов вблизи оказался для меня совсем иным.
Вейхард умышленно перебил шведа и что-то сказал Калинскому, посмотрел на часы, многозначительно взглянул на старосту, и оба удалились к своим шатрам. Тут, когда они остановились, граф приблизился к полковнику и тихонько спросил:
— Ну что? Идет?
— Понемногу, как всегда вначале.
— Дайте мне этого немца, я хочу сам с ним поговорить.
— Прикажем позвать его!
Калинский ударил в ладоши, вошел слуга, и полковник, что-то шепнувши ему, отправил его куда-то.
Вейхард быстро ходил по шатру и, казалось, нетерпеливо размышлял, когда в дверях поднялась занавесь и вошел маленький, невзрачный человек с глазами, закатившимися под лоб, с плоским и широким лицом, как у татарина, широкий в плечах, сильный; в выражении лица его проглядывало что-то отталкивающее и неприятное.
Вейхард сначала внимательно оглядел его и обратился к нему по-немецки:
— Кто ты будешь?
— Готовый к услугам вашим, полковник, немец, родом из княжеских пруссов, состою на службе у его величества короля шведского, в отряде князя Хесского.
— Как тебя зовут?
— Натан Пурбах.
— В какого рода оружии служишь?
— В пехоте.
— Это ты берешься завязать сношения с монастырем и привлечь пушкаря на нашу сторону?
— Я говорил полковнику, — указывая на Калинского, сказал немец, — что могу попробовать. В крепости служит мой родственник, Вахлер, при орудиях; я знаю, что ему там, между поляками, не должно нравиться. Можно бы поговорить…
— Как же ты с ним будешь видеться?
— Как? — сказал, улыбаясь, Пурбах. — Я этого еще сам не знаю. Надо будет ночью подкрасться к стенам. Вахлер находится в палатке возле пушек; ночи темные, и я даже знаю немного, в какой стороне его искать.
— Тебе нужны будут деньги? — спросил Вейхард.
— А что же без них сделаешь? — ответил немец, пожимая плечами.
— Попробуй, — сказал Вейхард, приблизившись к нему и давая ему несколько талеров, — и дай мне немедленно знать о результате; но смотри, о нашем разговоре никому ни слова, даже князю Хесскому и своим начальникам. Награду получишь щедрую от меня. Пусть Вахлер так направляет орудия, чтобы они не причиняли нам вреда, пусть скажет, в каком месте стены слабее, с которой стороны он может впустить нас через фортку в крепость. Если ему не удастся уговорить гарнизон к сдаче, пусть он заклепает орудия и бежит к нам… Наконец, известно, о чем идет речь… Иди и живо возвращайся.
Пурбах медленно, жадным взором пересчитал деньги, покивал головой и, подняв занавес шатра, исчез в темноте.
XX
Как стреляют шведы и не могут вызвать пожара; что нашла Костуха, и как она рада находке
Как только рассвело, шведские пушки отозвались снова, яростно осыпая монастырь ядрами. Кордецкий, ожидавший всегда, чтобы враг начал первый, ответил огнем, направленным из обители во все стороны. Люди после счастливо проведенного вечера, который вначале причинил столько страха, а окончился без всяких жертв, с еще большим жаром принялись за оборону. Только Вахлер неохотно ворочался около своих орудий и, плохо прицеливаясь, медленно стрелял и все время ворчал. Когда кто-нибудь за ним наблюдал, то он справлялся кое-как, но предоставленный самому себе, спокойно складывал руки. Это не ускользнуло от внимания тех, кто наблюдал за стрельбой, и пан Замойский несколько раз прикрикнул на него. Но как с немцем иметь дело: он свое, тот свое; но как только начальник отворачивался, Вахлер снова бездельничал. Немного поэтому вреда приносили с этой стороны неприятелю ядра. С других сторон зато дело шло старательно и хорошо. Там каждую минуту видно было, как шведы меняли свои позиции, так как их выбивали из прежних; больше всего возились с теми батареями, которые укреплялись, обливались водой, чтобы их не брали ядра.
В монастыре, осыпаемом градом ядер, не было больших повреждений, хотя страх понемногу возрастал, как потихоньку разгорающийся огонь. Ядра падали чудесным образом, как будто рука Матери Божией отнимала у них всю силу; они катились во двор, лежали на мостовой, служа потом для обороны. На гонтовых крышах, среди сухого дерева, воспламеняющиеся бомбы не могли вызвать так желаемого пожара; они напрасно старались поджечь монастырь, им это и сегодня не удалось. Несколько ядер, перелетев через стены, упали с другой стороны обители, где никого не задели; другие в самом монастыре едва оставили слабые следы на толстых его стенах; одно из них попало в комнату пани Ярошевской, где мать, увидев его, с криком бросилась к колыбели ребенка, на которого, казалось, был направлен грозный удар, но ядро, отскочив от печки, медленно покатилось и остановилось под люлькой. При виде этой милости Божьей к себе пани Ярошевская, схвативши ребенка, побежала с ним, чтобы положить его у алтаря Пресвятой Девы. Умиление, восторг и мужество овладели всеми, и вера, казалось, передалась от вождя к тем, которыми он руководил. Кордецкий, уходя только для молитвы, остальное время дня проводил на стенах.
Уже смеркалось, когда брат Павел услышал у ворот знакомый голос нищенки Констанции.
— Ну, что скажешь? — спросил он, перебирая четки.
— Ничего, братец! Прошу только впустить меня в монастырь; немного насобирала пуль и соскучилась по Пресвятой Матери, хочу ей поклониться. Прошу, пустите меня: целую ночь и целый день сидела я во рву среди грохота и треска, теперь хочется мне помолиться, а за это я заплачу вам пулями и расскажу кое-что о шведах; сейчас же я пойду назад, так как и мне надо беречь свою башню, так как и я теперь солдат.
Медленно рассмотрев, что она одна, брат Павел с улыбкой отворил старухе и тотчас же заботливо запер за нею. Костуха поклонилась ему и по обычаю поцеловала конец его наплечника, быстро повернулась и, бросив под ноги пули, пошла в костел. Вскоре она вышла из него.
С глазами, блестевшими от слез, она пошла под стенами и, казалось, чего-то искала и высматривала что-то. В это время Кшиштопорский, дежуривший на своей части стены, грозно окликнул ее.
— Кто ты такая и куда идешь?
При звуке этого голоса, угрюмого и гневного, старуха попятилась и задрожала.
— Чего ты подкрадываешься и прячешься? — сказал вождь.
— Иду под стеной, так как должна опираться, — закрывая лицо, ответила старуха.
Кто-то из гарнизона заявил, что ее знает, и Кшиштопорский отвернулся от нее, не задерживая больше.
Быстро шла дальше Костуха, но никак не могла попасть туда, куда хотела, хотя и хорошо знала дворы; она подкрадывалась к окнам, к дверям, вслушивалась в раздававшиеся оттуда голоса, но нигде не находила того, что ей было нужно. В этот момент издали показался ксендз Петр Ляссота, и старуха, немного подумав, пошла за ним следом, держась на известном расстоянии.
Ксендз Петр пошел к брату, а нищенка подбежала к дверям квартиры, присела у стены и приложила к ней ухо, вся приникла и, закрывшись платком, как будто бы задремала.
В этот момент на порог вышла Ганна, и эта бесформенная груда лохмотьев оживилась при виде девочки, исхудавшая голова высунулась из-под хустки; с особенным вниманием, с надеждой, с какой-то необыкновенной любовью, которая горела в ее взоре, нищенка смотрела на Ганну. Но приблизиться к ней, однако, не решалась, только дрожа, медленно ползла по земле, будучи не в силах даже открыть рта.
— Моя милая паненка, — смягчая голос, как могла, сказала она наконец, — моя милая паненка, может быть, вам в чем-нибудь услужить, может быть, вам в чем-нибудь помочь?
— Благодарю тебя, старушка, — ответила Ганна с милой улыбкой, звонким голосом, который старушка слушала с восхищением. — Мне ничего не нужно; я вышла потому, что там мой дед с ксендзом Петром разговаривают тихонько, и я не хочу им мешать. А ты, матушка, здешняя?