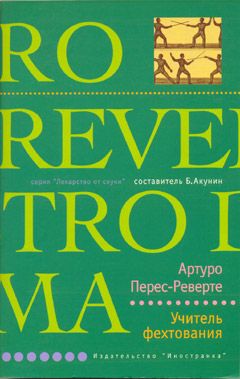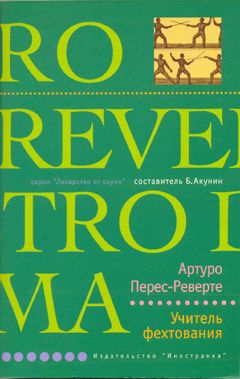Артуро Перес-Реверте - Учитель фехтования
– Вот-вот, к настоящей кровавой бойне, – согласился Марселино Ромеро, с удовольствием вступая в разговор.
– Правильно, – ликовал журналист. – Разве вы не понимаете? Честное слово, мне все ясно как день. Если наша Изабелита выбросит белый флаг, или примкнет к оппозиции, или отречется от престола в пользу своего сына – результат будет одним и тем же: среди бунтарей полно монархистов, и в конце концов нам навяжут Пуйчмолтехо, или Монпансье, или дона Бальдомеро, или вообще черт знает кого. Все это нам совсем ни к чему. Ради чего мы тогда боролись столько времени?
– Постойте-ка, сеньор, я что-то не понял: где вы боролись? – ядовито переспросил дон Лукас.
Карселес взглянул на него с презрением, как истинный республиканец на отсталого монархиста.
– В тени, друг мой. Конечно же, в тени. – Ну-ну…
Журналист сделал вид, что не заметил издевки дона Лукаса.
– Итак, я говорил, – продолжил он, обращаясь к остальным, – что Испании нужна бурная и кровопролитная гражданская война; с кучей убитых, с уличными баррикадами, с толпой, осаждающей королевский дворец, с комитетом общественного спасения. А этих жалких монархистов и их прихлебателей, – он украдкой бросил взгляд на дона Лукаса, – поволокут по улицам за ноги.
У Карреньо лопнуло терпение.
– Послушайте, дон Агапито. Что-то вы хватили через край. В масонских ложах…
Но Карселес разошелся не на шутку.
– Масонским ложам на справедливость наплевать, дорогой дон Антонио.
– Наплевать? Масонским ложам наплевать?
– Да, друг мой. Совершенно наплевать, уверяю вас. Если революцию развязали недовольные военачальники, надо сделать все возможное, чтобы она перешла в руки своего основного властелина – народа. – Лицо его восторженно засияло. – Республика, господа! Общественное достояние [42] – вот что это означает! И конечно же, гильотина!
Дон Лукас замычал от злости. Стеклышко монокля в его левом глазу затуманилось.
– Наконец-то вы сняли с себя маску! – закричал он, тыча пальцем в Карселеса и дрожа от праведного гнева. – Наконец показали вашу двуличную физиономию, дон Агапито! Гражданская война! Кровь! Гильотина!.. Вот он каков, ваш истинный язык!
Карселес взглянул на него с простодушным удивлением.
– Я всегда говорил на этом языке; иного, дорогой мой, я не знаю.
Дон Лукас чуть было не вскочил со стула, но вовремя передумал. В тот вечер платил Хайме Астарлоа, а кофе уже вот-вот должны были принести.
– Да вы почище Робеспьера, сеньор Карселес! – пробормотал он глухо. – Хуже, чем этот безбожник Дантон! [43]
– Не путайте яичницу с сапогом, друг мой.
– Я вам не друг! Такие, как вы, позорят Испанию!
– Как бы вам не пришлось раскаяться в ваших словах, дон Лукас.
– Еще посмотрим, кто будет раскаиваться! Королева назначила президентом генерала Кончу [44], а это настоящий кабальеро. Он уже доверил Павиа [45] командование войском, которое выступит против бунтовщиков. А уж в отваге маркиза де Новаличеса никто, полагаю, не усомнится… Так что рано радуетесь, дон Агапито.
– Посмотрим!
– Да-да, посмотрим!
– По-моему, все и так ясно.
– Будущее покажет!
Дон Хайме, которому опротивели эти почти ежевечерние распри, поднялся из-за стола раньше обычного. Он взял цилиндр и трость, попрощался и вышел на улицу, собираясь немного пройтись перед возвращением домой. Улица взволнованно гудела, и он чувствовал смутную досаду: все, что происходило вокруг, касалось его лишь поверхностно. Его утомил не только спор между Карселесом и доном Лукасом – он сетовал на страну, где ему довелось жить.
«Лучше бы они перевешали друг друга с этими их проклятыми республиками и чертовыми монархиями, с их пустой патриотической болтовней и склоками», – думал он мрачно. Многое бы он отдал, чтобы и те и другие перестали отравлять ему жизнь своей досужей суетой! Причины столь утомивших его передряг были ему глубоко безразличны; он желал одного: жить спокойно. Мир дона Хайме – его неприкосновенная собственность, а любители пошуметь пусть себе катятся к дьяволу.
Где-то вдалеке раздался гром, по улицам пронесся яростный порыв ветра. Дон Хайме нагнул голову и, придерживая рукой шляпу, ускорил шаг. Через несколько минут хлынул проливной дождь.
Вода мгновенно пропитала синее сукно формы и крупными каплями стекала по лицам солдат, по-прежнему стоявших в карауле на углу улицы Постас. Чтобы не промокнуть насквозь, они жались к стенам домов, и вид у них был смиренный и робкий, а грозные штыки доставали почти до кончика носа. Спрятавшись в подъезде, лейтенант покуривал дымящуюся трубку и глядел на лужи.
* * *
Несколько дней дождь бурными потоками заливал город. Сидя в своем кабинете над книгой, освещенной тусклым светом масляного фонаря, дон Хайме слушал беспрерывные раскаты грома. Тьму бороздили молнии, ослепительные белые вспышки призрачно освещали стены соседних домов. По крыше барабанила вода, и дон Хайме поставил пустые жестянки под тяжелые капли, монотонно падающие с потолка. Он рассеянно листал книгу. Внезапно его взгляд задержался на цитате, которую он сам подчеркнул карандашом несколько лет назад:
…Все его чувства достигли напряжения, которого он не ведал ранее. Он познал самые разные проявления жизни; умер и воскрес, любил до самозабвения и был навсегда разлучен со своей возлюбленной. И вот к рассвету, когда первые робкие лучи рассеяли сумрак, в его душе воцарился мир, и забытые образы предстали перед ним ярко и отчетливо…
Не отрывая палец от строки, он печально улыбнулся. Казалось, слова эти были посвящены не человеку по имени Генрих фон Офтердинген, а ему самому. Отрывок удивительно точно отражал суть его давних переживаний, это было описание его сокровенного опыта. Однако в последние недели что-то неуловимо изменилось. Душевный покой, яркие и отчетливые образы, созерцаемые с такой любовью, неожиданно исчезли в бурном водовороте, безжалостно разрушавшем спокойную ясность, в которой он мечтал прожить остаток своих дней. В его существование проникло что-то новое, таинственное и тревожное. Его мучили неведомые доселе вопросы, и ответ на них ускользал. Что все это значит, чем завершится – оставалось для него загадкой.
Он захлопнул книгу и яростно отшвырнул ее прочь. Охваченный тоской, он думал о своем ужасающем одиночестве. Глаза фиалкового цвета манили, настойчиво звали его куда-то в неведомое, куда – он не знал; вспоминая их таинственный зов, он вздрагивал, чувствуя темный иррациональный ужас. Но самым пугающим было другое: его старую, усталую душу лишили мира.
* * *
Он проснулся в предрассветных сумерках. Спал он последнее время плохо; сон был тревожным и неглубоким. Он умылся, привел себя в порядок и положил на стол рядом с зеркалом и умывальным тазиком, наполненным горячей водой, футляр с бритвой. Затем он, как обычно, тщательно намылил щеки, усердно массируя их пальцами. Подровнял усы старыми серебряными ножницами и расчесал влажные седые волосы костяным гребнем. Взглянув на себя в зеркало, он остался вполне доволен, неторопливо оделся и повязал на шею черный шелковый галстук. Из трех летних костюмов, висевших в его платяном шкафу, он выбрал бежевый будничный костюм из тонкой шерсти; надевая длинный вышедший из моды сюртук, он превращался в пожилого денди начала века. Брюки внизу затерлись от многолетней носки, но сюртук сохранился великолепно. Он достал чистые носовые платки, выбрал самый нарядный и, спрыснув его одеколоном, положил в карман. Перед самым выходом он надел сюртук и сунул под мышку футляр с рапирами.
Денек выдался серый, в воздухе опять пахло грозой. Дождь лил всю ночь; в больших лужах посреди улицы отражались фасады домов и свинцовое небо. Он приветливо поздоровался с консьержкой, которая шла ему навстречу, неся в руках корзину, полную снеди, пересек улицу и направился в скромное маленькое кафе на углу, где он обычно покупал себе на завтрак несколько пончиков с шоколадом. Он сел за свой столик в глубине кафе под слепым стеклянным шаром незажженного газового фонаря. В девять утра посетителей было мало. Валентино, хозяин кафе, принес ему пончики и шоколад.
– Газет сегодня нет, дон Хайме. Из-за всех этих беспорядков их пока не приносили. И боюсь, что не принесут.
Дон Хайме пожал плечами. Отсутствие газет не слишком его опечалило.
– Что нового? – поинтересовался он из вежливости.
Хозяин кафе вытер руки о засаленный передник.
– Говорят, маркиз де Новаличес стоит со своей армией в Андалусии и со дня на день выступит против бунтовщиков… Кордова сперва присоединилась к общему мятежу, а на следующий же день, едва ей пригрозили правительственные войска, сдалась. Многое пока не ясно, дон Хайме. И остается только гадать, чем все это кончится.
Позавтракав, дон Хайме вышел на улицу и направился к дому маркиза. Он не знал, захочет ли Луис де Аяла заниматься фехтованием, пока в Мадриде царит такая обстановка. Но нарушить обещание и не прийти в назначенный час маэстро не мог. В худшем случае прогулка оказалась бы напрасной. Дон Хайме опаздывал и, боясь, что его задержит какой-нибудь знакомый, взял извозчика возле одной из арок на площади Майор.