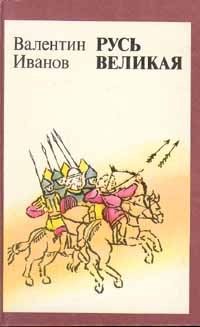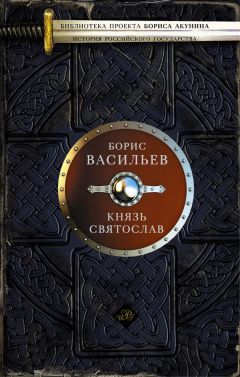Валентин Костылев - Иван Грозный
Андрею было приказано остаться на помосте.
– Государь, – молвил, кланяясь до земли, парень, – не мочно то, да и наряда жаль. Мортира та новая, и твое имя царское на ней чеканено.
Иван Васильевич рассмеялся:
– А боярина тебе, Телятьева, не жаль? Мортира люба тебе, а князь?
Что ответить? Андрей не знал. Покраснел.
Царь стал серьезен, отвернулся. Выстрелы следовали один за другим. Иногда раздавался залп сразу десятка пушек. Дрожь пробирала кое-кого из бояр от этой пальбы. Андрейка видел, что царь с большим вниманием любуется происходящим разгромом ледяных изб. И это было приятно Андрею. Стало быть, царь Иван понимает его, пушкаря, который тоже любит стрельбу и старается быть лучшим из пушкарей и мастеров. Да! Мортиру жалко, а неразумного боярина не жаль! Бог с ним! Бояр много, а пушек – ой, как мало!
Курбский вернулся к царю с донесением: пушку разорвало, а князя Телятьева шибко ударило. Унесли его и положили в шатер. Царь повернул голову в сторону Андрейки. Несколько минут испытующе смотрел ему в лицо, а потом спросил с плохо скрываемой улыбкой:
– Кого же тебя жаль: князя или пушку?
Андрейка теперь не мог кривить душой. Его сердце наполнилось злобой к Телятьеву.
– Пушку! – не задумываясь, ответил он. Царь расхохотался. Князь Курбский сердито покосился на парня.
– Скажи Юрьеву, – обратился царь к Курбскому, – пускай выдаст молодцу в награду пятьдесят ефимков... А чтоб вежество[38] соблюсти – и десяток плетней отпустите ему, этому ершу. Бояр надо уважать. Пусть то запомнит смерд!
Курбский сделал рукой знак Андрейке, чтобы он уходил. Андрейка вернулся к своему месту на стрельбище красный, озадаченный. За что же плети? После того и ефимкам рад не будешь.
На поле ни ледяных глыб, ни домов – все обращено в прах. Теперь затинные пищали били по чучелам. Одно за другим падали чучела. Меткие выстрелы пищальников оживили Андрейку. Любо ему было смотреть, как треплет ветерок космы расстрелянных чучел. Одно только, как заноза, сидело в сердце: обида на царя.
После того пускали вверх «греческий огонь»[39]. Огненные шары высоко в поднебесье с оглушительным треском лопались, и тучи золотистых звездочек, падая вниз, медленно таяли, не долетев до земли.
В толпе любопытных на окраине стрельбища было много иностранцев: купцов, мастеров, приезжих людей. Все они с удивлением смотрели на огневое искусство московитов. Дженкинсон после этой шутейной стрельбы расхваливал в толпе и царя и войско.
– У русских, – говорил он, – прекрасная артиллерия. Нынешний царь Иван Васильевич превосходит всех своих предшественников в твердости и отваге.
А в посольской избе написал письмо на родину, в котором говорил: «Нет христианского государя, коего больше бы боялись и больше любили, чем этого. Его величество принимает и хорошо вознаграждает иностранцев, приезжающих к нему на службу, особенно военных».
Расходясь по домам, чужеземцы перешептывались, что царь забавляется не зря, – теперь ясно, что Москва готовится к походу. Говорили они между собою и о силе и могуществе московского царя и о том, что, конечно, виденное ими далеко не все, чем обладает московский царь.
* * *В этот вечер Иван Васильевич ужинал у себя в покоях с царицею и ее братом, степенным, богобоязненным Данилой Романовичем Юрьевым. Он был невысок ростом, худ, с жиденькой бороденкой.
За ужином царь, смеясь, рассказал Анастасии, как проучил он Телятьева и каким молодцом оказался колычевский мужик, убежавший из вотчины.
Ужин прошел в веселой беседе. Из слов Ивана Васильевича было видно, что он остался доволен стрельбищем. Об одном пожалел царь – в войске мало хороших пушек.
Самому бы поездить по чужим странам да посмотреть своими глазами, какие там пушки, и как их делают, и как они бьют! Посланный за границу князь Лыков с товарищами, правда, кое о чем разведал и фальконеты государю из латинских городов привез, но этого мало. Да, новому строю и способу боя хотелось бы у иноземцев поучиться. Многое одряхлело... и многое народилось вновь.
Иван задумчиво, как бы про себя, сказал:
– Есть мудрые мужики, способные царю благой совет давать. Есть мысли старейших, до нас живших, нетленные. Ими питаемся. Никакие драконы блудомыслия, никакие измышления пустоглагольников не могли поправить их, но... кто скажет мне: где сильны мы сохранением старого завета, соблюдением древнего порядка и где мы слабы им? И все ли новое, хотя было бы оно лепо и сверкающе, государству на пользу? И все ли оно Божье, а не колдовское? Высокое достоинство советников правителя и сила их разума в познании меры. Ущерб старому в иное время так же прискорбен, как и неприятие нового. Воздержание и вожделение не живут согласно. А я слаб! Каюсь! Страсти сильнее меня.
Данила Романович и Анастасия ничего не могли сказать в ответ на речь царя.
Анастасия держала на коленях царевича Ивана в шлеме, с которым он не расставался.
Царица видела выражение растерянности на лице мужа и думала, как бы перевести разговор на другое. Но разве можно? Иван Васильевич любит, чтобы она была его советчицей.
– Батюшка-государь! – нарушила она молчание. – Господь Бог – лучший советник владык. Он развеет волшебство и укажет путь к правде.
Иван Васильевич улыбнулся, ласково кивнул ей, как бы одобряя ее слова. Но от Анастасии не укрылась усмешливость в глазах его. Да, она знает, что царь не получил ответа на свои мысли и что он втайне посмеивается над ее словами, но не хочет обидеть ее.
Иван указал Даниле Романовичу на сына:
– А ну-ка, Данила, поставим его в большой полк! Обрядим его в броню, дадим меч, посадим на коня и объявим: «Царевич поведет войско!»
Все рассмеялись.
Иван сказал:
– То-то потехи стало бы! Бояре лютее льва рыкающего ощетинятся! Ярмо и в том увидели бы! А надо бы. Жаль – мал он!
Анастасия сняла шлем с сына, прижала царевича к груди:
– Пустое! Не дам я его! Поставь своего Курбского. Он любит вперед лезть.
Иван, наливая в сулею из кувшина брагу, усмехнулся:
– Послушать бы, о чем без царя, у себя дома, говорят мои князья! А я знаю, что более всего толкуют они о роде своем... Кто кичится тем, что произошел от князей ярославских, кто-де прямой суздальский владыка, иной кричит: во мне течет кровь князей смоленских! Сатана слушает их речи и радуется: то Сигизмунда-Августа пальцем поманит к нам на землю, то крымского Девлета, то свейского, то немецкого, то Солеймана. А князькам недосуг – они делят Русь на княжества и спорят, кто кого старше... Дальше своих уделов ничего не видят. Государство не нужно.
Немного подумав, царь добавил:
– Не надобно им силы царства! Родословие им превыше всего. Император германский либо король светский – и те больше наших князьков думают о нашем государстве.
Иван Васильевич с горькой усмешкой покачал головою и тяжело вздохнул.
– Донес мне Владимиров человек, будто боярин Телятьев хулил меня, что царь-то отнял все, не велит бегать от одного государя к другому, царь приказал сидеть на месте и верою и правдою служить... править тем, над чем поставлены! Вольность! К татарскому игу привела та вольность! А ныне узнал я, новгородское вече они прославляют. Блудные сыны и лукавцы! Новгородская вольница – не сестра им и не опора нашему царству. Славят они ее назло мне. А Сильвеструшко им потакает. Новгородский попик себе на уме. Всю ночь Сильвестр вчера пировал у князя Владимира.
Иван нахмурился.
– И решил я поставить вождем над войском не Курбского и никакого иного русского князя, а татарина Шиг-Алея. А в придачу к нему пойдешь ты, Данила. (Данила Романович встал, поклонился и опять сел.) Да дядька пойдет: Михайла[40]. Князей посадим полковыми воеводами. Государю не род нужен, не знатность, а служба. Мишка Репнин отказывается идти под рукой Басманова. Князьку-де постыдно слушать недавнего дворянина. А Басманов к огневу бою приучен лучше, нежели князь Репнин. Князь Куракин не хочет стать рядом с Павлом Заболоцким. Но кто же из князей может равняться по конному бою с казаком Заболоцким! Пускай татарин начальствует над всеми ними. Пускай! А царевича, мать моя, побережем. Будет время, повоюет! Много у нас, русских, врагов! И внукам и правнукам хватит. Чем будем сильнее, тем больше врагов явится. И меня не будет, и тебя не будет, а враги будут:
– А я пойду! – крикнул царевич, крепко прижатый к груди матерью.
Царь расхохотался:
– Что скажешь, Данила?
Данила Романович встал, поклонился:
– Царскую доблесть и достоинство видим мы в царевиче с младенческих лет. Любовь великого царя к сыну – залог счастья всея Руси!
Иван поднялся, взял царевича на руки и крепко его поцеловал. Курчавый, черноглазый мальчик погладил ручонками щеки отца и сморщился: «колючие».