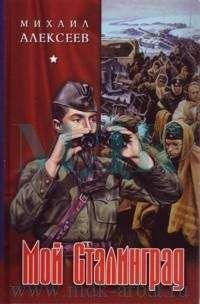Валерий Кормилицын - Держава (том второй)
— Много, — подавился осетриной Бобинчик, — хотя бы — шестьсот…
— На восьмистах сойдёмся… и три тысячи раненых… Вот за границей бы завопили о кровавом Николашке… А главное, он ни в чём не виноват… Как во время Ходынки. Но кого это интересует…
— И так завопят… Эсеры, искровцы, европейские и американские рабиновичи… Всем Николай поперёк горла. А гефилте фиш я больше из сазана уважаю, а не из щуки, — добавил наболевшее.
— Да ешь хоть из некошерного сома, — рассердился Ицхак, — но дело разумей.
— Какое дело, — икнул Бобинчик.
— Зли православных. Разжигай в них ненависть к евреям…
— Чего? — даже перестал жевать обжора. — Я что, по–твоему, второй Павел Крушеван с его газетёнкой «Бессарабец». Вон какую подлую статью напечатал об убийстве в Дубоссарах православного мальчика. Евреи боятся на улицу выходить.
— Хм, — довольно ухмыльнулся тощий. — Хорошая злободневная статья. Я ему ещё одну подбросил. Об убийстве хозяином–евреем своей православной служанки.
— Чего? — поперхнулся Бобинчик. — Да тебя за это неделю кормить не надо, — пригрозил жуткой, по его мнению, карой.
— Православные поверят всему. Наивные и доверяют газетам, дурачки. А наши кишинёвские евреи — трусы. В Гомеле полмесяца назад был. Так там бундовский местный комитет первого марта организовал праздник, по случаю убийства царя–освободителя Александра Второго. И наших братьев полно пришло. Кто бы здесь, в Кишинёве, пришёл? То–то и оно. В Гомеле Бунд организовал военизированное формирование. До ста человек стрелять из револьверов учатся. Если что, сумеют дать врагу отпор… А наши? — презрительно сощурившись, отщипнул кусочек отварной осетрины.
Немного расстроенный нанесённым убытком Бобинчик, передвинул тарелку поближе к себе.
— Найди людей, и всячески оскорбляйте православных. В Кишинёве на 50 тысяч евреев приходится 50 тысяч молдаван, 8 тысяч великороссов, малороссов цыган и других гоев. Беси особенно молдаван. Южная горячая нация, и к тому же погрязли в православии. Нет бы, иудаизм исповедовали…
— Они–то иудаизм не примут, а вот многие евреи принимают крещение и становятся христианами.
— Да знаю, господин Бобинчик… да, да… Рабинович. Сам, поди, подумываешь православие принять, чтоб свинину жрать было можно, — рассмеялся тощий, и хотел ещё отщипнуть осетрины, но толстяк быстро запихнул оставшийся кусок в рот.
«За что ненавижу братьев–евреев, так это за жадность», — немного распрямившись, пожевал капустку Ицхак:
— А я займусь статьями и листовками… Не только в Молдавии, но и в России, и Малороссии. Где полыхнёт, там и ладно. Бей жидов — спасай Россию, — поднял рюмку, начисто отбив тостом аппетит у Гада Бобинчика.
Через несколько дней он прочёл в газете, что в г. Нежине были задержаны евреи Янкель Брук, Израиль Тарнопольский и Пинхус Кручерский, распространявшие листовки: «Народ! Спасай Россию, себя, бейте жидов, а то они сделают вас своими рабами».
«Ицхак действует. Его тактика», — пошёл в любимый ресторанчик, чтоб совместить приятное с полезным: покушать гифилте фиш и, заодно, побеседовать с официантом.
— Хаим, — сделав обильный заказ, произнёс он. — Твой брат владеет аптекой? — и на утвердительное покачивание головы, продолжил: — Тебе партийное задание… Возьмёшь у братца кислоты и плеснёшь ею в наглую рожу фараона или офицера местного гарнизона, когда он, пьяный, будет уходить из ресторанчика. А может, встретишь где солдафона — почём зря в Златоусте по людям палили… Так что не жалей рядовых сатрапов. Коли со своими людьми натолкнётесь на молдавашек, бейте их, сердешных, смертным боем. Хоть нас мало, но мы с ножами, — заржав, отпустил официанта.
Сам же, сытно отобедав, нахально пёр на людей, никому не уступая дорогу. Даже братьям–жидам, безжалостно сталкивая их животом с тротуара.
Подпоручик расквартированного в Кишинёве пехотного полка Банников, построив пришедших из краткосрочного отпуска солдат, сцепив за спиной руки, хмуро вышагивал перед ними.
— Это кто же вам так физиономии разукрасил? — в который раз вопрошал он, получая один и тот же ответ:
«Не могём знать».
— Не могём, не могём, — злился офицер, — с кавалеристами в какой–нибудь забегаловке сцепились? — прояснял ситуацию.
— Никак нет! Шли, никого не трогали, вашбродь, — принялся объяснять самый разумный, по мысли Банникова, из шестерых стоящих перед ним нижних чинов. — Налетели похожие на жидов мужики, и чего–то крича про какого–то Сатрапова, зачали, подлецы, нас колошматить… Ох, бяда–бяда… А мы, вашбродь, ни сном, ни духом этого окаянного Сатрапова не видывали… Можа, денег им задолжал, шельмец. Но солдата с такой фамилией в полку точно нет.
— Ладно, разойдись, — вздохнув, дал команду подпоручик: «Куда же вечером податься? — стал размышлять он. — Сейчас пост и в офицерском собрании скучно. Нет того душевного подъёма… И вина пьют меньше. Э-эх, скорее бы Пасха. Вот уж повеселимся», — радостно прищурился он и, подойдя к зеркалу, полюбовался на себя, благосклонно козырнув подтянутому отражению. — Вот как надо честь отдавать, — проходя мимо оторопевшего дневального, попенял ему. — А то, словно бабы платок поправляете, а не честь отдаёте, — оглядел вытянувшегося нижнего чина: «Проведу–ка я ночь у своей жидовочки, — пришла в голову здравая идея, — ух и темпераментна дщерь израилева», — чуть не облизнулся офицер.
Следуя утром в казарму и попутно перебирая в уме любовные перипетии, заметил прущего паровозом навстречу, тяжело сопящего толстяка.
«Ох, и разлопался сын израилев, — мысленно улыбнулся Банников, — с таким и не разминёшься на тротуаре», — полез в кобуру, где лежала подаренная еврейской пассией шоколадка в форме нагана.
«Чего это сатрап задумал?» — покрылся холодной испариной Бобинчик—Рабинович, напомнив подпоручику запотевший огромный водочный штоф.
«Такой и за неделю не выпьешь», — прикинул он, вытащив шоколадку.
— Кар–р–рау–ул! — сиганул на мостовую Бобинчик, попав под медленно бредущего меланхоличного тяжеловоза, тащившего телегу с мешками.
Не ожидавший нападения мерин, утробно ёкнув селезёнкой, рухнул на мостовую.
Всегда ожидающий пакости от жидов молдавский крестьянин, бросив вожжи и покумекав чуток, чем действовать: пустым деревянным ведром или лопатой — выбрал лопату, коей, под одобрительным взглядом с трудом поднимающегося тяжеловоза, принялся вразумлять лежащий монумент Бобинчика, иногда подбадривая себя воплем: «Га–а–д!».
«Откуда он меня знает?» — прикрыв руками самое ценное: живот, горестно раскидывал умом поверженный Голиаф[3].
— Фу-у, взопрел! — сообщил мерину крестьянин, аккуратно уместив на телеге лопату и почесав зад.
— Милые бранятся — только чешутся, — сообщил зевакам Банников, содрав обёртку и откусывая шоколад.
Каково же было его удивление, когда прочёл в газете, что бедных, несчастных, голодных евреев топчут лошадьми и избивают чем ни попадя крестьяне, а офицеры угрожают оружием…
«Во стервецы… Кроме моей жидовочки, конечно, — пришёл к выводу Банников, — как всё с ног на голову горазды переворачивать».
Ещё больше в этом мнении укрепило его нанесение увечий разумному солдату, который вместе с товарищами недавно подвергся избиению.
«Не везёт парню, так не везёт, — сочинял он рапорт начальству, — всё лицо кислотой попортили, а ведь служить ему всего полгода оставалось».
____________________________________________
Вечер 28 марта для чинов полиции и железнодорожных жандармов выдался весьма активным и нервным.
Их величества с дочерьми и свитой прибыли на вокзал, намереваясь отправиться в Москву, поклониться святым и просить у них помощи в успокоении России.
Максим Акимович Рубанов удостоился чести не просто сопровождать царскую чету, но и ехать в их поезде.
Победоносцев такой чести не удостоился и вместе с другими сановниками добирался обыкновенным пассажирским составом, что впрочем, нисколько его не огорчило, а даже обрадовало. В последнее время ему всё тяжелее становилось нести бремя государственных забот, и он чувствовал, что молодой монарх относится к нему со снисходительным почтением, но к советам уже не прислушивается.
Узнав о поездке любимого папа в первопрестольную, Аким, с помощью маменьки, вновь уговорил его взять к себе адьютантом.
Свита располагалась в разделённом на девять купе, шестом вагоне.
Рубанову с генералом Драгомировым отвели четвёртое купе. Кроме них там же расположились и адьютанты.
Генеральские денщики оставили в двухместном купе необходимые дорожные припасы: коньяк с закуской, и гордые исполненной миссией и поездкой в царском поезде, удалились в восьмой вагон, где находились комендант, прислуга свиты и доктор с аптекой.
Сияющий электрическим освещением состав ещё не тронулся, а генералы уже принялись провожать себя и желать друг другу доброго пути…