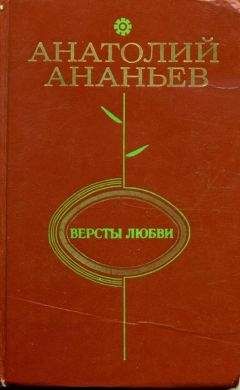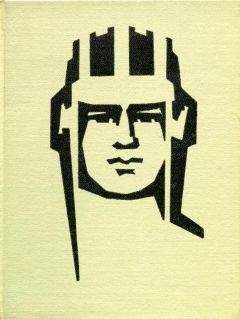Виктор Лихоносов - Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж
Бывает, что спишь по двенадцать часов в сутки оттого, что ждешь любви и никто не идет. Так спала она теперь в Хуторке.
— Уж солнышко окна прожгло,— приставала Анисья,— а ты бока пролеживаешь...
Ничьи слова не милы. Отец во дворе таскал воду, мыл кожаный верх экипажа, выбивал мягкие, на конском волосе, подушки.
— Дай-ка умою тебя,— упрашивала Анисья,— водица у меня такая, из-под стопочки богородицы, из лавры Почаевской. Этой водичкой сбрызну, вздоровеешь. Скорбящую тоску разгонит. Глядь-ка, камушки какие чудные. Это слезки богородицы, сподобил меня десяточком монах горы Афонской. А это стружечка из Назарета, кипарисового дерева, что стругал господь на храм нерукотворный. В чаю отваривать, действует от женских. А вот еще от яселек, где батюшка царь небесный родился. Возьми на ладонь да помажь головку, она болеть не будет и волос сечься.
— И сколько ж ты ходишь...
— Иду себе помаленьку да иду, а земелька-то позади остается, а глянешь вперед — и впереди еще много. Как будто нет никого, а ты беседуешь. С душой беседуешь. Вот и ты тоже. Я твое чувство понимаю.
— Что, что? Что понимаешь?
— Давно б ты уж сама приворожила, если мне не позволяешь.
— А ты можешь?
— Дай только поглядеть на него.
— Нету у меня никого, Анисья, матушка моя.
— У меня внук в Екатеринодаре, но мне не велено говорить, что он мой внук. Он тебе пара.
— Кто?
— Прости меня, господи, не скажу. А скажу, когда помирать стану, да ведь где смерть застанет — не знаю. Шатунья я. Пойду-ка к Серафиму Саровскому в обитель. Завтра у Марии Магдалины панихиды по умерших братьях и сестрах.
Мать уже отправила в монастырь сало, крупу, птицу. Отец повез ее помолиться. Калерия выходила на дорогу и раздавала нищим, калекам серебряные монеты. Со всех сторон брели, ехали паломники. В ограде монастыря всю ночь варили борщ в огромных котлах, жарили мясо и рыбу. Подаянием в сиротские дни люди вымаливают прощения, вспоминают свое горе: у кого немая дочка, у кого калека хозяин, кто-то прожил век без детей.
Еще через день родители снарядились в гости в Роговскую. Анисья с монастырской панихиды не вернулась; наверное, заночевала там или ушла с божьими старушками дальше. Утром Калерия со скукой наблюдала, как закладывали лошадей. Экипаж выкатили и поставили посредине двора. Кучер заложил коренника, подводил пристяжную, потом взобрался на козлы и подобрал вожжи. Кони взвились и вынесли экипаж за ворота в степь, через версту успокоились, экипаж вернулся, и тогда заложили вторую пристяжную. У матери все, как нарочно, не ладилось: потеряла ручной платочек. Отец сердился и ходил с папиросой по комнате. «Я в феврале родился,— говорил он о себе,— ветры дуют, оттого я и такой бешеный...» Окрестные казаки уважали и боялись его. Не дай бог застанет у кабака пьяных — высрамит на всю станицу: «Уже до церкви звонят, а вы рачки около кабака лазите! Детей полну хату понаплодили, жинка в поле, а вы последних волов пропиваете. Вон! Шоб все шли в церковь!» Ехал сейчас к однополчанину послушать скрипку и поиграть в карты. А Калерии опять листать альбом с картинками и гадать?
Ночью она видела нежный сон. Она лежала в комнате одна и вся истомилась. И в окошко раздался стук! Это он. Калерия, еще полусонная, вскочила и мелкими скорыми шажками подошла к окну. В листьях шумел ветер. Не открывая глаз, Калерия протянула руку. Вот я, вот я,— безвольно отдавала она руку тому, кто был там, под окном. Мокрым лягушачьим холодом обожгли ее чьи-то губы.
— Ой, кто это?!
— Это я... ваш великий князь... Умоляю вас, не кричите...
После обеда за карточным столом в офицерском клубе станицы Уманской наскучила Толстопяту мужская компания, и он вышел в буфет. Через полчаса не было для него на земле места, куда бы он не доскакал на своем Лорде. В пятом часу вечера Толстопят гнал Лорда в Каневскую.
Утром, по случаю отдыха, к нижним чинам прибыли из станиц жены и родственники. Еще за версту слышны были песни, стук колес. Счастье казаку, когда приезжает баба. Холостые после завтрака наярились в станицу на базар, в духан — полузгать семечек, выпить араки да, может, прицепиться к некапризной казачке. Хорунжий Толстопят знал заранее, как проведут день нижние чины. Станичные телеги, одна от другой поодаль, расставятся по царинной степи. Бабы понавезут сала, хлеба, овощей, горилочки. Телегу кто-нибудь завешает бурками, мешками, чтобы никто не подглядывал, как отдыхает казак с жинкой после сытной домашней закуски. Только несмышленые птички будут скакать у колес в поисках крошек. То там, то тут вознесутся в просторы казачьи голоса, споют что-нибудь старинное. Поэтому утром он был особенно строг с казаками:
— Пустить лошадей в табун! — кричал он.— А там чего крик подняли?
— Та то мы в шутку,— отозвался извинительно казак, сидевший среди товарищей на бурке, внук Луки Костогрыза Дионис, и такой же весельчак.— Вспоминаем, как шкуринские казаки корову заместо холеры убили. А вы разве не слыхали? Как была в старовину холера, по станицам много людей поумирало, а в станице Шкуринской застряла под мостом чьясь черна корова. Вот шкуринцы и додумались с великого разума, шо то не корова, а сама холера. Взяли дрючки та, вместо того чтобы ее вытащить, под мостом ту сердешну корову и убили! Задарма. От так шкуринцы!
— Ваши пашковцы,— сказал казак из Шкуринской,— вместо матки навозного жука до пчел посадили.
— Брехали твоего батька свиньи, та и ты с ними. Нас дразнят сметанниками.
— Довольно,— сказал Толстопят.
В двенадцать часов дня пристала к казачьим телегам и повозка Луки Костогрыза. Казаки растянули в ухмылке рты: это ж сколько дней считал кочки от Пашковской дед с оселедцем? Оделся так, будто хотел напугать молодых казаков своими заслугами: чистая черкеска, на груди медали и кресты, на поясе кинжал. «Слава героям, слава Кубани!» — поприветствовал он всех. Через час у его маленького бочонка с вином побывали не только нижние чины, но и урядники, сотники, и всякого он чем-нибудь да насмешил.
— Это моя Одарушка замещает наказного атамана и прислала вам на поднятие воинского духа. Вареники привезу в другой раз. Та наказывала, шоб внуку не наливал и чарки. А хорунжему Толстопяту — письмо от батька. Чистенькое, и ни один уголок не загнулся.
— Долго ехали, дидусь? — спросил внук Дионис.
— Дороги до вас прямой с Екатеринодара нету, так я взял на Петербург, а уже с Петербурга на Тифлис — и к вам.
Отец писал Толстопяту о екатеринодарских новостях и наказывал, чтоб его сотня на инспекторском смотре обошлась без замечаний. Мать снова начала худеть, на днях взвешивалась, еще легче стала, чем в прошлом году: всего три пуда и шестнадцать фунтов. С генералом Бабычем так и не хочется мириться. Увидишь, мол, атамана Ейского отдела К., передай: чувствительнейше честь имею благодарить за привет через шкуринского однополчанина. Дожди прошли, на Рашпилевской плавают на лодке. В скетинг-ринке пела недавно какая-то Варя Панина, весь вечер не вставала с венского стула. Приглашали Шаляпина (бас), но он якобы дал телеграмму: «Шаляпин в конюшнях не поет». Тогда скорей пусть приезжает с Кавказа граф Воронцов-Дашков, казаки войскового хора споют не хуже. Такие новости. «А что до меня,— заканчивал батько,— то, слава богу, здравствую ровно».
— Дай вам боже,— благословлял Костогрыз пропустить чарку,— дай боже благополучно кончить лагерную службу та в добром здоровье пристать к жинкам. У кого она есть — шоб грела ваши бока, как печка.
— Так можно? — спросил внук Дионис.
— При мне можно. А потом как узнаю, шо ты хоть языком лизнул где каплю, то так чуба намну, шо семь лет не вырастет шерсть на том месте, где рука моя доторкнется. Перекидай чарку в рот!
— Жалко, шо не вчера, дедусь, приехали,— мы и лозу рубали, и на скаку шапки схватывали.
— А на вечере при начальнике штаба танцевал «пьяного казака»?
— К офицерскому ужину не подпускают.
— Меня колысь пускали. И тут, в Уманской, как я танцевал! Кончил, то начальник штаба подошел, вынул четвертную, дает при всем панстве. Не брешу. А где ж ваши паны? О, догадываюсь. Они в станице спят на подушках, откинули ноги, бо целисиньку ночь, известно, в клубе картами ляпали. Какие бы они были паны, если б не умели добре погулять. Так же? Москали, те гордые, высоко себя ставят, великие хвастуны, а в службе, особливо на смотру, один за другого прячутся или поделаются хворыми. А шо, не так? Ну, будем здоровы — у кого черные брови, а у кого черный усок, тому сала кусок. На! — ткнул он сало березанскому казаку.— Перекидай чарку в рот!