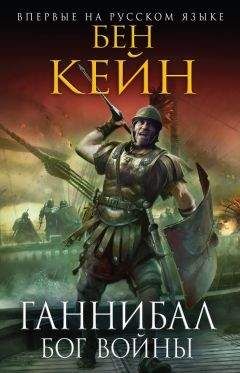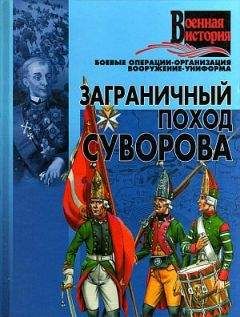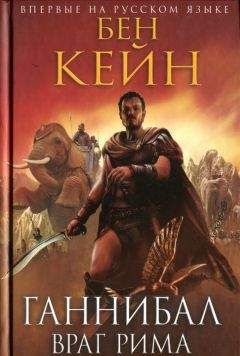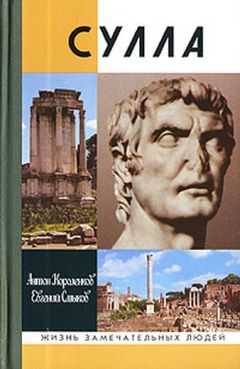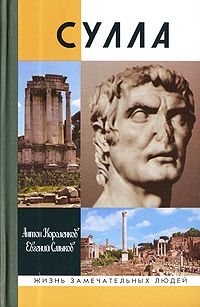Август Шеноа - Крестьянское восстание
– Откуда ты извлек это потрепанное пугало, Петар? – спросил Алапич.
– Шкура у меня потрепанная, – сказал рыжий, – да ум крепок; на шкуру можно поставить заплаты, а на ум нельзя.
– Как тебя звать, откуда ты и кто? – спросил опять Гашо.
– Зовут меня Шимун Дрмачич. Откуда я? Это, ваша милость, спросите у моей неизвестной мамаши. Во всяком случае, я появился на свет где-то около Сутлы, потому что там впервые стал таскать кур. Кто я? Все, кое-что и ничего, digna cum reverentia, illustrissime![39]
– Я хотел сказать, чем ты, каналья, питаешься? – проговорил в удивлении Алапич.
– Хлебом и ракией.
– А кто же тебе доставляет средства?
– Мой ум да чужая глупость, stultitia humana.[40]
– Откуда ты знаешь латынь?
– Это длинная история. Мальчишкой я водил слепого с палкой, получая от него ежедневно три порции колотушек. Я и бросил его в лесу. Тогда монахи из Кланца взяли меня в школу. Окончив ее, я стал послушником. И едва не сделался порядочным человеком. Еды и питья вдоволь, работы никакой. Но монашеская капуста слишком воняла, и когда брат ключник спрятал даже ключи от погреба, я украл у гвардиана зимние сапоги и купил на них ракии. Эхма! Монахи это пронюхали. Я старался доказать, что и святой Криспин поступил, как я, но все напрасно. Сняли с меня монашеское одеяние, и я очутился, как рак без скорлупы. Плохо бы мне пришлось, не умей я читать, писать и не знай немного латыни. Это и спасло меня, я стал ходатаем.
– Ты, мошенник, ходатай? – рассмеялся Гашо.
– Если брадобрей может называться доктором, почему же и мне не быть ходатаем? Хожу из села в село и ношу в своей выдолбленной палке перо, чернила и бумагу. За прошение беру грош или стакан ракии; так и питаюсь, как воробей в помойной яме.
– Забавная история! – воскликнул Алапич, хлебнув из кувшина.
– Да, – ответил Дрмачич, – я рассказал вашей милости весь мой curriculum vitae[41] мошенника, чтоб снискать ваше доверие.
– А сумеешь ли ты, мошенник, сделать то дело, ради которого я тебя призвал?
– Пойти уполномоченным к туропольским костурашам? Еще бы!
– Ты знаешь Турополье?
– Каждый куст и каждую корчму от турецких траншей на Одере до крепости в Лекеницах и от Ракитовца до последней дубранской клети, а также и славную «Высокую гору», которую всякий заяц может перепрыгнуть.
– Ну так вот, косматый domine Криспин, направь-ка ты свои копыта на «Высокую гору» и науськай костурашей против господина Вурновича.
– Ad servitia paratissimus,[42] но мои копыта Fie подкованы.
– Другими словами, dominatio vestra,[43] – сказал Алапич, – метит на мой кошелек, не так ли, мошенник?
– Конечно, – сказал Шиме, кивая, – clara pacta, boni amici. Всем известно, что посланнику нужны золотые и серебряные приманки. Поглядите на меня. В частной своей работе я не забочусь ни о дырявых сапогах, ни о протертых локтях, но на господской службе надо быть умытым и причесанным, auctoritatis gratia.[44]
– На, – засмеялся Алапич, кидая Шимуну толстый кошелек, – умойся и причешись. Завтра на заре отправляйся с Петаром в Горицу. Но смотри не засни в какой-нибудь корчме, не то я тебя насажу на вертел.
– Не рассчитывайте на это постное жаркое, magnifice, слишком вы жирный клиент.
– Ступай!
– Servus humillimus dominationis vestrae,[45] – Шимун поклонился, засунул кошелек в карман и вышел с Петаром из комнаты, куда тотчас же вошла Ягица.
– Слава богу, – вздохнул Гашо, – publico-politica[46]закончились, теперь пойдут privatissima.[47] Теперь я твой, Ягица.
И он поцеловал корчмарку.
Город был объят тишиной, все спало, и лишь каждый час слышался крик сторожа: «Хозяева и хозяйки, остерегайтесь пожара, сгребайте жар в очагах, чтоб кошка не разнесла искры на конце хвоста».
12
В день святого Якова, то есть 25 июля 1565 года, бан Петар Эрдеди созвал всех дворян на сабор в свободном славном городе Загребе. Дворяне как громом были поражены этой вестью. Теперь-то должна была разразиться буря. Прошел слух, что Тахи привез от короля важные письма, но содержание их было неизвестно. Люди в страхе гадали, что там; подчеркивалось, что именно Тахи привез письма, и люди нетвердые, преклонявшиеся только перед силой, стали качать головами.
Накануне дня святого Якова (было воскресенье) господин Амброз ехал из Брезовицы в Загреб. Недалеко от Королевского брода на Саве он встретил большой отряд туропольских дворян с саблями, шедший со знаменем по направлению к Загребу; впереди на конях ехали братья Яков и Блаж Погледичи из Куриловца. Увидав подбана, Блаж махнул рукой, и весь отряд стал кричать: «Vivat Ambrosi!»
Потом Блаж подъехал к экипажу Амброза и, поклонившись, сказал:
– Egregie domine! Все хорошо! Мы с вами! Завтра бан нам даст отчет.
Амброз поблагодарил, а Блаж вернулся к своему отряду, сказав, что его люди должны еще отдохнуть в ближнем селе, прежде чем переправиться через Саву.
Приехав в Загреб, подбан сразу отправился в дом господина Коньского у Каменных ворот. Там он нашел за столом целое общество: хозяйку Анку, госпожу Уршулу и трех ее зятьев.
Все встали, чтоб поздороваться с подбаном.
– Слава Иисусу! – сказал Амброз. – Вы, как вижу, навостряете языки к завтрашнему дню! И даже женщины, которые на саборе и голоса-то не имеют! Ну, что нового? Подсчитали ли вы наши голоса?
– Да, мужчины вот уже два дня как только этим и занимаются, – сказала Анка Коньская. – Эх, почему я не мужчина!
– Как же наши дела? – спросил Амброз, садясь на высокий стул.
– Хорошо, батюшка, – ответил с живостью Степко, – господин Вурнович привлек туропольцев, у них большинство голосов.
– Spectabilis domine,[48] – сказал Коньский, – хоть я и надеюсь, что большинство будет на нашей стороне, но прошу вас не ходить завтра на сабор. Мы будем говорить вместо вас.
Все ужаснулись, а подбан выпрямился и спросил с удивлением:
– Почему?
– Будут говорить о вас, – ответил порывисто Коньский, – прошу вас, не ходите.
– Что ты, свояк, с ума сошел? – крикнул в бешенстве Степко, ударив кулаком по столу. – Ты нам ничего об этом не сказал. Надо же заставить этих мерзавцев скинуть маску.
– А почему же бан может идти на сабор? Разве не он зачинщик насилия? – вставила горячо Уршула.
– Бан – глава сабора, – спокойно ответил Коньский. – Мы будем вас защищать, доложим вам все, domine Ambrosi! Но заклинаю вас, не ходите.
Подбан внимательно посмотрел на Коньского и, сделав знак рукой, сказал:
– Выйдите на минуту! Все, кроме Коньского.
Все вышли.
– Господин Коньский, – продолжал Амброз, – вы что-то знаете. Говорите!
– Вот в чем дело, – ответил хозяин дома. – Епископ Джюро Драшкович советует вам не ходить на сабор. У него на то веские причины. Может разразиться буря, может дойти до столкновения. Родина в опасности: сейчас все должны объединиться и быть готовыми к войне. Потому-то вас епископ и просит не ходить. Он мне не хотел говорить, но я предполагаю, что Тахи удалось склонить короля на свою сторону. Ради бога, не ходите!
Подбан немного подумал, потом спросил:
– А где епископ?
– Уехал в Тракощан, чтоб избежать бури, которая может разыграться на саборе.
– Позовите всех, – сказал подбан.
Коньский повиновался.
– Господа и братья, – обратился подбан к вошедшим, – я завтра на сабор не пойду.
– Боже мой! – воскликнула Уршула вне себя, схватив старика за руку. – Вы нас бросаете на произвол судьбы! Ради бога, не делайте этого.
– Батюшка! – закричал Степко, становясь на колени перед Амброзом. – Заклинаю вас сыновней любовью, не поступайте так, каждый волос вашей седой бороды стоит сотни их слов.
Но подбан поднял голову и сказал:
– Не пойду.
Тогда Коньский подбежал к нему и, поцеловав его руку, воскликнул:
– Благодарю вас, достойнейший муж. Я буду защищать вас до последнего вздоха. А вы подождите! Придет время, и все увидят, насколько благородна душа Амброза Грегорианца.
Было утро дня святого Якова, час открытия сабора. Старик Амброз, опустив голову, заложив руки за спину, шагает по комнате в доме Коньского. Он мрачен и неспокоен. Мечется из угла в угол, как лев в клетке. Иногда остановится и посмотрит в окно. Наблюдает, как выборные идут через Каменные ворота на сабор. Одни, оживленно разговаривая, спешат, боясь опоздать; другие, наоборот, идут медленно и молча, как бы нехотя. Пешие, всадники, вельможи, сливари из Турополья в синих кафтанах под ментиками. А Амброз не может, не смеет пойти. Он мрачно хмурит брови, и на глазах его дрожат слезы. Он один. Мужчины ушли на сабор; Анка в своей комнате с матерью Уршулой, которую трясет лихорадка. Он один со своей седой головой и своим благородным сердцем, которое так взволновала чужая нечестность. Да и теперь оно бьется все чаще, стучит все громче. Что-то будет? Время ползет медленно, как червь; все тихо, лишь изредка с площади Св. Марка доносятся крики – это сабор, заседающий во дворе ратуши. Минул полдень, уже час дня. С улицы послышались топот, шум, крики. Подбан подошел к окну. Взволнованные, разгоряченные, с красными лицами, бранясь и смеясь, шли выборные с сабора. В коридоре раздались шаги. Дверь отворилась, в комнату стремительно вбежал Степко и, став перед отцом на колени, воскликнул: