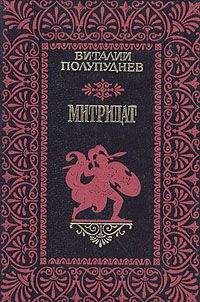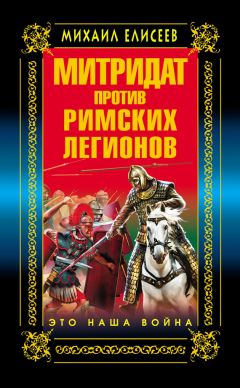ВАЛЕРИЙ ШУМИЛОВ - ЖИВОЙ МЕЧ, или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста Часть I и II
– Вот этот дряхлый старичок с лукавым выражением на лице – не кто иной, как сам второй римский принцепс-император Август Октавиан, наследник убитого нами Цезаря. Человек, может быть, вполне достойный, учитывая то, как он, в конце концов, отомстил не только нам, республиканцам, за своего дядю, но и Антонию за нас с Цицероном. Он, кажется, единственный, кто из всех императоров умер своей смертью, хотя и про него ходили упорные слухи о смерти от яда, который дала старику Октавию его жена Ливия…
– Третий император Тиберий – чума Вечного города и его сената – был задушен подушками начальником преторианцев Макроном.
– Четвертый император Калигула, животное, ничуть не лучше своего коня, которого он пытался сделать сенатором, был смертельно ранен еще одним командиром преторианцев Хереей, нашел в себе силы крикнуть: «Я еще жив!» – и был немедленно прикончен тридцатью ударами копий.
– Пятый император Клавдий был отравлен собственной женой Агриппиной, которой не терпелось посадить на трон пасынка Клавдия и своего сына Нерона (от рук которого вскоре погибла и сама Агриппина). «Какой великий артист погибает!» – успел, в свою очередь, только и воскликнуть шестой император Нерон, перед тем как перерезать себе горло в страхе перед приближавшимися к нему заговорщиками.
– Отрубленную голову седьмого императора Гальбы убившие его преторианцы (за отказ заплатить им деньги за их помощь в приходе к власти) преподнесли восьмому императору Отону, но вскоре и последний ударил себя в горло мечом, чтобы не быть отданным на поругание толпе.
– Последний в нашем списке девятый император Вителлий, выволоченный из дворца почти такой же толпой, успел лишь заявить восставшей черни: «Я ваш император!», чтоб через минуту быть растерзанным ею, после чего труп повелителя Империи был выброшен в Тибр…
Брут грустно посмотрел на Сен-Жюста, пожал плечами: «Кажется, я сказал все…» – затем, сухо кивнув собеседнику, медленно шагнул обратно во тьму и исчез. И только после этого Сен-Жюст проснулся.
…Итог по любимым жизнеописаниям Плутарха, который «подвел» Сен-Жюст после ночного «посещения» его Брутом, ошеломил его: из пятидесяти восьми героев древнего херонейца [40] «своей» смертью умерли только шестнадцать (из них шесть – из-за болезней), сорок два человека погибли: двадцать восемь были убиты или отравлены, двенадцать покончили с собой, двое умерли в плену. Самоубийственный дух героических жизнеописаний восхитил Сен-Жюста и заставил его сделать далеко идущие выводы, которыми он, впрочем, ни с кем не поделился. Хотя сам для себя отметил: ни вины, ни заслуги самого Плутарха в том заряде «героического пессимизма» и «жертвенности во имя народа», который вызывают его жизнеописания вот уже на протяжении нескольких поколений, почти нет: каковы люди, такова и история…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ПАЦИЕНТ ШАРАНТОНА,
ИЛИ ЧЕРЕП МАРКИЗА ДЕ САДА
Нация, которая начинает управляться как республика, будет способна поддерживать себя лишь с помощью добродетелей, но нация уже старая и разложившаяся, которая отважно сбросит с себя иго монархического правления, чтобы воспринять правление республиканское, будет поддерживаться лишь посредством бесчисленных преступлений; ибо она уже находится в преступлении, и если бы ей захотелось перейти от преступления к добродетели, то есть от состояния жестокости к состоянию покоя, она впала бы в косность, первейшим результатом которой была бы ее неминуемая гибель .
Маркиз де Сад– Вы знаете, – говорил известный комедиограф Викторьен Сарду своим друзьям, – со смертью сумасшедшего маркиза де Сада связана одна любопытная история. В своем завещании это чудовище разврата осталось таким же оригиналом, как и в своих писаниях. Бывший маркиз просил похоронить себя посреди леса без каких-либо церемоний, а могилу засеять желудями так, чтобы и следа ее нельзя было отыскать. Возможно, в нем наконец-то проснулось что-то похожее на совесть, и он лелеял надежду на то, что не только его могила, но и самое его имя сотрется из людской памяти. Бедняге не повезло. На завещание пациента Шарантона не обратили внимания и похоронили на обычном христианском кладбище в Сен-Морисе. Но, видимо, святая земля не могла не извергнуть этого святотатца из себя, или, может быть, такой оригинал при жизни не мог не удостоиться чести быть препарированным после смерти, – слишком многие ученые доктора хотели покопаться в голове этого чудака, устроенной совсем не так, как у нас с вами. Среди них был и мой добрый друг доктор Лопд, ученик знаменитого Галля. Короче говоря, в одну из ночей могилу раскопали, труп вскрыли, и Лопду достался череп маркиза. К сожалению, очень скоро череп у него был похищен (среди похитителей бывают же тоже оригиналы!), и я не мог, как бы очень хотел, зайдя к своему другу Лопду, вытянуть в протянутой руке этот череп и, подобно безумному принцу датскому, сказать: «Мой бедный Сад, я знал его, о, Лопд…» Впрочем, это шутка, – я не знал маркиза и не видел этот его знаменитый череп. Где же он теперь, череп маркиза де Сада? Кто знает! Но думаю, он не просто пылится где-нибудь на полках анатомического музея или в чьей-либо частной коллекции. Нет, – череп перешел в историю… [41]
* * *
После того как все приготовления были совершены, принц, удобно расположившийся в мягком кресле, положив одну руку на подлокотник, вырезанный из слоновой кости в виде большого мужского фаллоса, другой рукой дал сигнал к началу либертенского жертвоприношения. В ту же минуту пять участников церемонии – две женщины и трое мужчин – окружили привязанную за руки и за ноги к «станку наслаждений» дрожащую в предвкушении восхитительной и сладострастной боли Терезу.
Альфонс-Донасьен – главный распорядитель церемонии, полный, но на удивление бодрый и живой старик, как и все, раздетый донага, но в парике, с которым он никак не хотел расстаться, вручая своей поверенной Жюльетте «девятихвостую кошку», не удержался от очередного напоминания:
– Ты должна постараться сегодня как никогда, обольстительница. Наслаждайся своей радостной жестокостью! И смотри, чтобы принц был доволен… [42]
Альфонс-Донасьен хлопает в ладоши, и вся группа приходит в движение. Первым делом главный распорядитель, подойдя со спины к, можно сказать, «распятой» на деревянной «кобыле» Терезе, ощупывает и осматривает окрестности храма, куда собирается проникнуть. Два бастиона, сходные с двумя половинками луны, вскоре не выдерживают натиска орудия, огромного по размерам, что, учитывая возраст его обладателя, не может не вызвать почтительного восхищения у всех компании либертенов [43], которые приветствуют начало действия громкими рукоплесканиями. Тереза, в которую главный либертен безжалостно вгоняет свой инструмент, радостно вскрикивает, и в то же мгновение Ролан, мужчина средних лет, скорее худой, чем полный, берет приступом точно такой же храм самого Альфонса-Донасьена, и так они, все трое: Тереза, главный распорядитель церемонии и Ролан, как бы пронзенные друг другом, образующие некое единое целое – шестирукое-шестиногое-трехголовое тело, – начинают двигаться в одном маятниковом ритме. Но этим дело не кончается – к группе присоединяется Сен-Фон, который, пристроившись к находящейся спереди Терезе, по ходу дела, овладевает и ее естественным святилищем. Последняя участница церемонии – Омфала, восхитительно громадная в своих пышных формах, расторопно, несмотря на весь свой немалый вес, взбирается на самый верх шаткого деревянного устройства, к которой привязана Тереза, и пристраивается к ней сверху так, чтобы склоненная голова женщины приходилась как раз на грудь Сен-Фону, а потаенное святилище самой Омфалы напротив лица трудящегося в меру сил и тяжело сопящего Альфонса-Донасьена. Последний немедленно погружается в ласки этого алтаря и приходит в необыкновенное возбуждение, которое вслед за ним охватывает и всех присутствующих. Но их сладострастные выкрики, похожие на рычание, и гнусные богохульства вдруг перекрывает резкое щелканье бича, кинжально рассекающего воздух. Это Жюльетта, зайдя сбоку, принимается за порученную ей работу и начинает бешено охаживать всех либертенов врученной ей «девятихвостой кошкой». Вскоре кровь с рассеченных тел уже брызгает во все стороны, и выкрики становятся все громче.
– Разве это не прекрасно, милый принц? – Альфонс-Донасьен вдруг слышит прерывистый слащавый голос Ролана, обращенный к принцу Шарлю, но обернуться уже не может: волна жгучего наслаждения поднимается к его груди. Глаза почти выкатывают из орбит; спина, по которой струится пот, перемешанный с кровью, кажется старому либертену пылающей печкой; рот, переполненный слюной, открыт в немом крике; наконец, он готов уже взорваться переполнявшей его страстью, как внезапно стук распахнувшейся тяжелой, обитой железом двери вторгается в его сознание и чей-то равнодушный тупой голос отчетливо произносит: