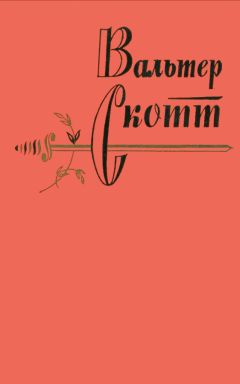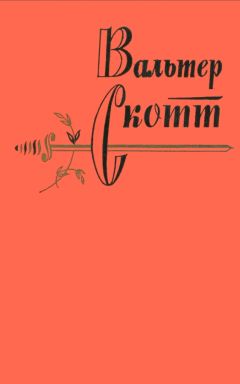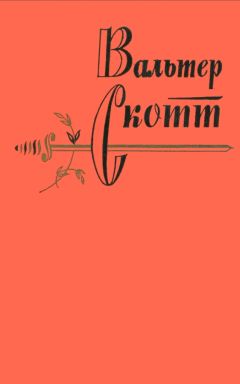Петр Петров - Белые и черные
Государыня согласилась на это, но с одним условием: что её величество сядет у самой завесы алькова в опочивальне, а княгиня поместится за занавесью, сзади кресел государыни, и при необходимости проявит гнев для острастки виноватого; Аграфена Петровна потянет книзу складки платья монархини, а для удержания вспышки — вверх. Решение принято, и (кроме Ягужинского и Чернышёвых) приказания посланы.
Среди бесед и уговоров наступила глубокая полночь, и комнатные женщины, накрывшие давно ужин, не видя выхода её величества, придумали перенести стол со всем приготовленным прямо в опочивальню. Тихо распахнулись обе половинки двери, и быстро подкатился на колёсах стол с кушаньями и напитками, не потревожив ни её величество, ни советницу и не перервав нити разговора. Затем женщины удалились, а Ильинична сочла нужным обратить августейшее внимание на необходимость подкрепить силы перед сном.
— Вашему величеству теперь больше, чем в другое время, нужен отдых, чтобы приготовиться к тяжёлому приёму людей, с которыми придётся вам крепиться, выслушивая их увёртки и новые плутни…
— Твоя правда, Ильинична… подкрепимся. Но если бы вы знали обе, как сделалось больно моему сердцу при напоминании, что я со всеми должна играть комедию… и…
Её величество не договорила, но взгляд, полный горечи и отвращения, досказал смысл фразы. Предаваясь мрачной думе, Екатерина I машинально налила какого-то вина в стоявший перед нею кубок и залпом выпила его, думая, как бы залить жгучую боль от поднявшейся желчи. Минутное облегчение не ослабило утомления, усиленного неприятными открытиями, и к концу ужина сон склонил на пуховик отяжелевшую голову кроткой монархини.
Ильинична и княгиня, наоборот, бодрствовали; обе советницы не заметили в интересном разговоре, шёпотом, наступления дня. Речи свои они не перервали и тогда, как вокруг них уже началась обычная дневная суета. Уж в приёмной её величества Иван Балакирев вежливо начал отказывать назойливым посетителям, прося прийти в другое время, потому что её величество после болезненного припадка только что заснула. Этот же ответ получили от Балакирева даже Андрей Иванович Ушаков и Макаров. Оба господина явились во Дворец вместе, с раннего визита и совещания у светлейшего князя, ещё не отучившегося от петровского порядка вставать чуть не с петухами. Так как Ушаков считал, что в первую очередь надо решить все его предложения, то светлейший князь и поручил Макарову с них именно начать свой доклад по кабинету её императорского величества.
Если бы необычный сон её величества не представлял непредвидимой задержки, то Андрей Иванович рассчитывал всё заполучить ещё утром, вместе с распоряжениями о новых лицах и отношениях к ним государыни, по его представлению. В числе этих новых лиц и предположений было предложение немедленно удалить Ильиничну: она видела, как Ушаков подъехал к дому Толстого, по возвращении с обеда светлейшего, и у Андрея Ивановича сложилось тотчас соображение удалить её скорее, чтобы не предала. А что она, баба хитрая, поняла многое при встрече и намотала себе на ус — в этом Ушаков не сомневался. Знал Андрей Иванович и то, что за человек княгиня Аграфена Петровна, ехавшая с Ильиничной в одних санях. И её тоже думал попридержать усердный разыскиватель, а затем хотел предложить — приличия будто бы ради — возвести в церемониймейстеры шута Лакосту, с поручением ему докладывать о приходе разных лиц в приёмную её величества, вместо Балакирева. Того же он предполагал назначить комиссаром работ, с рангом выше гвардейского прапорщика, но с удалением совсем от очей государыни. И сам светлейший будто высказал, что неприлично входить такому молодому человеку в опочивальню её величества или в уборную, где монархиня бывает в неглиже. Макаров даже предлагал, с назначением Балакирева в интенданты, прямо услать его теперь в губернии: ревизовать запасы и переурочивать повинности по дворцовым волостям, которые, за недосугом, лет двадцать не были смотрены никем из верных людей.
— Женим Ваньку на Дуньке Ильиничниной, и пусть он себе зашибает что придётся, а нам поперёк дороги не торчит, — решил великодушно Алексей Васильевич.
— Вот так молодец, Алёша! — похвалил Андрей. — А то этот верхогляд норовит всё выше лететь и от нас рыло воротит, стервец, как я уже заметил. И штука, я вам скажу, ваша светлость! Не смотрите, что исподтишка подходит да чуфисы бьёт [57]…
— И того нет! — отозвался светлейший, начиная ходить по кабинету, как бывало у него перед вспышкой гнева.
Оба советника по этому признаку раздражения, переглянувшись, заключили, что пора им закрыть совет.
— Одначе мне, ваша светлость, кажись, пора за дела приниматься, — выговорил робко Ушаков да тут же и вставил. — Довольно будет на первый раз. И то заранее трудно сказать, удастся ли?
Макаров также не совсем одобрительно качнул головою.
— Ну, хоть и так покуда… — решил, начиная ещё что-то припоминать, светлейший. — Помните, я буду часов около двух. После обеда сосну чуточку и тогда уже опять буду молодцом.
Произнося последние слова, Александр Данилович приосанился и взглянул в зеркало, проходя мимо него, — ненароком, должно полагать.
Фортуну, однако ж, древние справедливо представляли женщиной молодою и капризною, любившею ежемгновенно изменять положение с поворотом колеса. Лучшие намерения и прекрасно соображённый план советников оказались мгновенно разрушенными от самого прозаического повода — её величество была разбужена раньше, чем должно. А сделала это Ильинична по усиленному о том домогательству Алексея Васильевича Макарова. В сущности, бабе самой хотелось скорее начать заученную роль гофмейстерины, и она рада была, что имеет повод сослаться на другого, если императрица изъявит неудовольствие. Войдя же в опочивальню и став у изголовья государыни, начинавшей уже просыпаться, она громко сказала:
— Неравно головка разболеться может… Вам бы, ваше величество, мало-маля да открыть оченьки? Право, так… Да и Алексей Васильич здесь… Покою не даёт который уж раз: «Надо, — говорит, — всенепременно доложить».
— А-а! Что-о?! — зевнув, переспросила государыня, делая недовольную мину человека, отрываемого от очаровательных грёз к гадкой прозе. — Провал бы взял тебя, Ильинична, и с Алексеем Васильичем. Только успеешь забыться, как ты, негодница, и начинаешь меня мучить…
— Да я, государыня, ни при чём тут, сами рассудите. Приказ вы же отдавали: будить непременно, если будет настаивать. Почему я знаю, что вам неугодно его принять? Вижу, вздрагиваете таково неладно что-то, вот я, по рабскому моему усердию, и заговорила неравно — думаю — головка бы не разболелась, коли переспите.
А у государыни действительно началась головная боль.
— Так и впрямь, думаешь ты, лучше будет ещё не засыпать… а разгуляться? Спасибо, коли так, за остережение, а голова подлинно болит…
— Так, ваше величество, лёжа его выслушаете? Он говорить или читать будет, вы услышите… мало-помалу и очунетеся…
— Пожалуй, введи… Только я не встану ещё…
Княгиня стала за занавес, её задёрнула Ильинична и ввела Макарова.
— Ну, что у вас там нужное такое? — сердито позёвывая, задала вопрос кабинет-секретарю государыня.
— Да несколько представлений светлейшего, не терпящих отлагательства…
— Каких таких?! Посмотрим! Читай!
Макаров прямо и зачитал о даче дворов: пятидесяти — княжне Марье Федоровне Вяземской, у которой будто бы деревенька родительская сгорела, да за усердие сто дворов — генералу Ушакову.
— А есть свободные дворы-то?
— Как же, ваше величество… и гаки есть в Лифляндах, и дачи…
— Отдать же княжне, бедняжке, все полтораста дворов. Я ею довольна была всегда. А на пожарное дело нужно пособить. А Ушаков… переждать может. Он нам всё только обещает приложить усердие. Просил позволения забрать кого нужно — позволила я, а он же пришёл да говорит сам: «Всё пустяки… незачем брать в допрос». Пустой, значит, человек! Хотелось ему у нас доклад получить да чин генерал-адъютанта?! Посмотрим ещё… да коли ещё что соврёт, так и снимем этот чин. Не стоит… Сплетник и каверзник он. Не больше того!
А Ушаков тут уже был и при произнесении своей фамилии наставил ухо, стоя в отворённых дверях передней. Его как громом поразила высочайшая резолюция, а неожиданный отказ привёл даже в бешенство, которое готово было разразиться над первым встречным, кто бы пришёлся по силам. Но глаза Андрея Ивановича напрасно искали здесь предмета, на котором бы можно было сорвать свой гнев.
Балакирев стоял у окна на Неву и смотрел в него, стоя спиною к генералу. Андрею Ивановичу страх захотелось привести к порядку субалтерного офицера, но боязнь, как это ещё примется теперь, не усилит ли, чего доброго, ещё пуще августейшего неодобрения его действий — остановила даже и этот порыв. Мелькнул сквозь отворённую дверь в коридор у цесаревен Лакоста, но, завидя генерала, сам поспешил ловко скрыться, так что Андрей Иванович не заприметил даже — куда? Словом, образовалось вдруг и неожиданно самое скверное положение, и это после того, как он полагал, что всё пойдёт как по маслу!