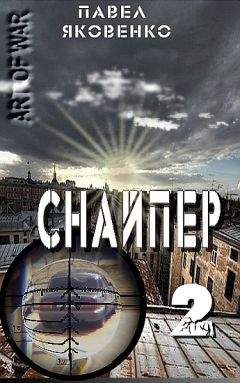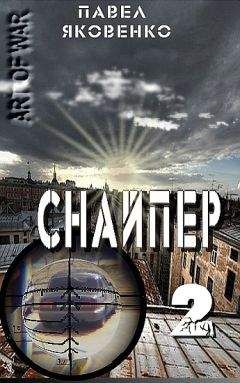Андрей Иванов - Харбинские мотыльки
— Я еще раз хочу повторить, что поддержки от немецких баронов отряд не получает никакой! — воскликнул гневно Тополев. — Хочу повторить: отряд не получает поддержки ни от одной организации!
— Так, господа, — хлопнул в ладони Терниковский, — я вас не за этим пригласил! Об этом мы успеем. Прежде всего, мы собрались тут обсудить выступление Милюкова. Садитесь, ротмистр, я продолжу. — Терниковский встал. — К вопросу о финансировании вашего отряда мы обязательно вернемся. Как вы знаете, недавно в Берлине была напечатана статья «Национальный вопрос»…
Борис приподнялся, извинился одними губами и, не распрямляя спины, направился к выходу…
Доктор посоветовал присматривать за Николаем Трофимовичем.
— Заходите к нему почаще. Но ни в коем случае не расстраивать. Сами знаете, в какие годы живем, одно расстройство. Лечил генерала фон Штубендорфа, так он мне, знаете, что сказал: «Я устал прыгать на подножку поезда». Очень характеризует наши годы!
Борис избегал д-ра Мозера — слишком ярко вспоминался Изенгоф: его халат поверх шинели, руки, которыми тот проникал в самое нутро кошмара, извлекая его оттуда член за членом, собирал вновь, а он распадался…
В Екатериненталь лучше не ходить совсем: кого-нибудь да встретишь. Получил приглашение на бал, который устраивает общество помощи эмигрантам. Дочь Марианны Петровны — две косички, конопатый нос: «Приходите! Будем очень рады вас видеть!»
Покраснел, ничего не сказал.
Русских узнаешь по старым шляпам. У «Русалки» под ивами на скамейках сидят — пальто в подпалинах, драная шуба. Над ними на ветках вороны. Небо свернулось, как сливки. Ветер гонит бумажки по променаду. Вытягивает чей-то зонтик. Крякнул клаксон. Шляпы шевелятся, смотрят вслед автомобилю. Листья, бумажки, фонари. Так они и сидят. Шелестят газетами. Донашивают костюмы. Плывут по дорожкам Екатериненталя. Стоят там и тут, как шахматные фигуры.
Каплями пуантилиста проступают на фоне серого моря. Сядешь на скамейку, и тут же кого-нибудь принесет. Не Стропилин, так Федоров. Написали что-нибудь? Постоянно нужно что-то писать, нести, дрожать, сгорать внутренним пламенем. Где тут ходить? Не ходить вообще. Лечь и лежать. Закрыться в лаборатории француза. Суббота, воскресенье — пропащие дни. Когда-то ателье мне казалось наказанием, теперь начинаешь ценить мертвые часы: ни посетителей, ни коллег, — дверцы таксомоторов хлопают, колокольчики в магазинах звякают: дзинь в начале улицы, дзинь чуть ближе, дзинь дальше и в другом конце. Люди идут мимо, и бог с ними! Поезжайте к речке! За город! К морю! Покупайте бисквиты и цветы! Пейте вино! Зачем вам глянцевые двойники? Зачем множить несчастные лица? Трюде не понимает. Она всегда меня плохо понимает. Она думает только о работе. Когда хочет что-то показать в витрине, тянет за рукав.
Борис часто думал о ее отце. Вынимая пленку из аппарата, запускал руки в мешок и вспоминал его глаза. Стараясь не смотреть в лицо клиента, он отводил взгляд в сторону. Окно… Раз в неделю, обязательно, окно рожало регулировщика. На перекрестке он выглядел куклой. Котелок, отутюженные брюки, накрахмаленный воротничок. Болван болваном. В одно и то же время его менял другой болван, а этот шел куда-то мимо ателье (уже человеком), сдергивая на ходу белые перчатки совершенно свободными от дрессуры движениями. Deja vu, думал Борис. Возле тумбы таксомоторы. Одни и те же морды. Мальчишка с заплечной рамой, афишами и посудиной для клея орудует кистью (его Борис не сразу замечал — отчего-то брали совсем коротконогих). Едва дотягиваясь до верха, налепил вкривь и вкось, так сойдет, побежал дальше. Лапой удерживая позеленевший глобус, вслед ему смотрит стальной ворон (Борис к нему долго привыкал). Громоздкие вывески: JURGENSSON, H.O.Waldmann. До блеска надраенные медные часы в витрине антикварного. Флаг. Три золотых льва. Борис смотрел в окно безжизненным взглядом. И к чему глаза мне? Все равно, как слепой. Отец Трюде вот уже четверть века живет в насмерть зажатом резинками мешке, изо дня в день перебирая пленку памяти незрячими руками, и не может добавить к ней ни одного мгновения, даже полоски света, ничего. Она ему читает… соседи приносят сплетни… у них есть радио… Кто он мне?.. Зачем я думаю о нем?..
Заходите к нему почаще… не расстраивать… Зашел, а там отец Левы, доктор Мозер и еще один сутулый, серый, как крыса, — сидят за столом, пьют, а Николай Трофимович на них смотрит, слушает их байки — так они ему помогают, при нем пьют, анекдоты травят, настроение поднимают, от мыслей о смерти отвлекают. Доктор говорил о союзе врачей или пациентов, потом сказал, что в городе убийство — говорят, идентичное убийству в Париже, ГПУ убили кого-то. Я сказал, что сходил на Добужинского. Если б не вы, Николай Трофимыч, пропустил бы.
— Успели, — вставил доктор.
Дмитрий Гаврилович опьянел быстро и сильно, говорил невнятно и очень громко, — всем сделалось неуютно (может, только мне), — человек-крыса слушал и улыбался, приоткрыв рот, внимал. История о том, как Лева болел в детстве…
— Он был тогда совсем маленький, даже не говорил, полтора года ему было, заболел вдруг сильно, кашлял, кашлял, жар был, вот и кашлять перестал, кашель перешел в вой, в кроватке биться перестал. Нам всем страшно стало. Я не мог ждать и сидеть, нянечка Левушку мазями натирала, водкой, скипидаром, что-то прикладывала, а я по врачам бегал. Одного привез, другого, третьего… Всех водил, а потом — впал в отчаяние. Признаюсь, веру потерял, успокоился, сел и сижу. Просто сижу и даже не плачу. Вдруг услышал, что Левушке стало легче. Я это понял по крику. Он так вскрикнул с силой, и тут все поняли, что выжил, и такое счастье на меня навалилось, так мне хорошо и покойно стало, ни с чем это не сравнить! Такое счастье ничем не достигается в жизни. Ни свой дом, ни кресло министра…
Ускользает. Приду, запишу, выведу. Какую бы зарубку… Канава, почтовый ящик. Столб. За что бы ухватиться взглядом? Поздно. Кануло. Мелькнуло что-то, как по льду сверкнувший конек. Мираж царскосельской девочки. Призрак. Пропустил сквозь себя, как громоотвод молнию, и что теперь толку шарить в этом мешке? Душа-пленка. Чужие знаки. Чужие лица. В меня можно все что угодно напихать. Пустые люди. Зачем мне все это? Зачем мне вас понимать? Никто не пытается меня понять, отчего я пытаюсь? Не сплю, думаю… Что если нет в вас ничего? Рябь на воде. Ряска. Цветение в Клеверной. Вонь. Но бывает миг. Неуловимый. Удивительный. Как эта прозрачная березка. Полыхнула молния мысли. Смерч все сместил. Шаришь там, где что-то привиделось. Что там из прошлого? Клочки. Что для будущего? Песочек из разбитых часов на уроках музыки. Что у этого мальчика в его углу было? Тетрадка, из журнала вырванная картинка. Эдгар По, Суинберн, «Давид Копперфильд». Мать пичкает его оккультной дуростью. Эликсир Парацельса. Бессмертное Братство. Сатанисты. Сфинксы. Спасение человечества. За стенкой эти, с картами и девками. Да мы с Левой в коридоре. Наша ссора не самое отвратительное, что ему приходилось слышать в этом до дыр проеденном тараканами домишке.
Борис постоял перед сонной витриной с бесполым манекеном-обрубком в манто. Новые ботинки не поместились. Сделал шаг назад. Скверная погода — ботинки не разглядеть. Новые брюки к ним не помешали бы… Пошел. И пальто… Пошел. В следующий раз… если будет следующий раз.
На Вышгород к Трюде?.. Покрасоваться в новых ботинках, дождаться, как только утихнет кашель отца…
А может, начать картины продавать? Собирать заказы? Как с подписным листом: не хотите портрет? А хотите, нарисую вашу улицу? Ваш дом? Вашу квартиру? Кошку? Сделаю дагеротип…? Хотите? Дагеротип — не фотография, это искусство! Второго такого ни у кого не будет, — только у вас! Или — себя… как образец — вот мой дагеротип… такой же хотите? Купите отражение! На этой улице тогда еще не звучал фокстрот. Неужели каждый раз буду вспоминать? En pensent d’Elle[39]… Портрет я продал, а забыть не забыл. Как устроен ум! Одни и те же образы. Ничего неожиданного. Закладываешь в голову Рембрандта, вынимаешь Пикассо. В конце концов, жизнь становится похожей на альбом или коллекцию открыток.
Медленно выкатился трамвай. Борис дождался, вскочил на ходу. Сел у окошка. Отвернулся.
Вчера он рисовал фрагмент стены дома, — это было так давно, он только учился читать; долго ждал отца; ходил по двору, бегала детвора (мал мала меньше); ждал, пока отец сходит по какому-то делу; читал надписи на стене: Я — Петя… Он отчетливо запомнил эту надпись. Криво написанные буквы. Вчера они встали перед глазами. Рисовал всю ночь. Фрагмент стены, трещинки, неровности, щербинки. Я — Петя… Не получилось. Замазал. Еще раз. Не то. Взял картонку. Еще. Еще. Еще. Все не то. Ему не удавалось воспроизвести надпись как следует. Так, чтоб ощущалась рука того мальчишки. Того Пети. Я — Петя. Нет! Получался Boriss Rebrov, kunstnik. А Пети не было. Он изуродовал несколько папок: Я — Петя Я — Петя Петя — Я Петя.