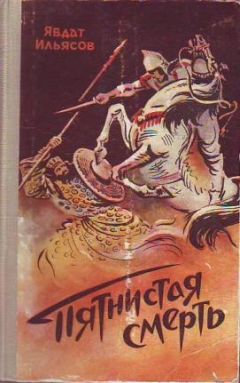Наталья Навина - Последние Каролинги – 2
– Да, у моего сына хорошие предки – императоры, короли, мятежники, ведьмы, колдуны, иноверцы… – он сказал это без тени насмешки.
– И тебя не смущает то, что ты узнал о Юдифи?
– Смущает? Мне всегда по душе люди, которые борются до конца и умирают, не смирившись. Я доволен, что кровь этой женщины смешалась со слабеющей кровью Каролингов!
Фортунату не слишком нравилось нынешнее настроение Эда. Сказать по правде, оно его пугало. Конечно, все это можно отнести на счет радости и восторга из-за рождения сына…
– И теперь, если я правильно тебя понял, ты собираешься публично объявить о принадлежности своей жены к императорскому дому. О своем же истинном происхождении ты объявить не можешь.
– Так.
– Предвижу большие осложнения. Потому что в этом случае в глазах всех людей вы с женой окажетесь двоюродными братом и сестрой. А подобный брак может заключаться только с личного разрешения папы Римского. Которого у тебя нет. И Фульк сделает все, чтобы этот брак признали недействительным.
– С этим я сам как-нибудь разберусь.
– Однажды ты уже столкнулся с силой церкви. И чем это кончилось?
– Тогда я и понял, что с церковниками нельзя идти на уступки. Все равно обманут.
– Ты говоришь это мне, священнику?
Но Эд уже не слышал его. Видно было, что его ничем не собьешь.
– Ты слишком радуешься, – заметил Фортунат. – Это не к добру.
– Я радуюсь потому, что понял замысел Одвина. По нашим обычаям женщина не имеет права наследования, хотя может его передать. А Одвин явно хотел видеть свою приемную дочь на троне. Каким же образом он мог этого добиться? Только подыскав ей такого мужа, который мог бы ее право утвердить. Но ведь так в конце концов и получилось! Моя жена – королева не только по праву брака, но и по праву рождения! И кто усомнится в законности права Ги на корону Нейстрии? Слабоумный недоносок под крылышком Фулька ему не соперник. Как ни зла судьба, а справедлива. Все совершилось именно так, как должно было произойти.
Фортунат удрученно взглянул на своего духовного сына. Похоже, вс испытания минувшего года послужили лишь к укреплению его гордыни. Похоже, он забыл уже о недавних терзаниях, и раскаяние гораздо дальше от него, чем было прежде.
– Но ты понимаешь, что теперь тебе поневоле придется обо всем рассказать жене?
– Да. Я был неправ, пытаясь скрыть тайну. Конечно, ее и надо было скрыть, но не от нее. Достаточно лжи.
Фортунат молча осенил его крестом.
Разговор затянулся за полночь, и единственным его свидетелем был Ги, мирно спавший в своей колыбели. Азарике очень хотелось приоткрыть ставню и вдохнуть свежего воздуха, но она боялась, что сквозняк повредит ребенку.
– Ты мог бы открыть все это и раньше, – произнесла она наконец. – Выдержать такое одному…
– Я выдержал.
– Теперь я понимаю… – задумчиво произнесла она, – что… твоей матери было известно все… или почти все. И знание это она использовала как оружие против принцессы Аделаиды… а может быть, и короля Карла.
– И это все, что ты можешь сказать?
– А что я должна сказать?
– Но ведь все переменилось. Раньше я был Каролинг, а ты – нищая ведьма. А теперь оказалось, что я – безродный простолюдин, а ты – имперская принцесса… по прямой линии от Карла Великого!
– Что до меня, то ни кровь императорская, ни кровь еврейская ничего во мне не изменят. Я – это я.
– Отлично сказано, я мог бы повторить то же. Но теперь я понял – для власти одного лишь права меча недостаточно. Нужен еще и меч права. А в наших руках теперь и то, и другое. Каролингам конец, впрочем, как и Робертинам. На смену им пришла новая династия – Эвдинги. Тебя будут почитать как мать королей, как новую Берту или Клотильду. И это еще не все…
– Чего уж больше? – спросила она пересохшими губами.
– Многое. Я высоко поднялся, ничего не зная ни о прошлом, ни о настоящем, ни о смысле своей судьбы. Теперь, когда я все это знаю, я пойду дальше – и выше. И там, где другие потерпели поражение, я одержу победу. Потому что теперь мне есть ради кого побеждать. Сын мельника стал королем, сын короля станет императором!
Она все-таки решилась приоткрыть ставень. Струя морозного ветра скользнула по ее лицу. Снежинки с шорохом лепились по ставню и стене замка.
Она видела, как во мраке мелькают факелы, улавливала обрывки песен – жители Компендия праздновали Рождество.
– Тебе страшно? – услышала она голос мужа.
Прикрыв окно, она повернулась к нему.
– Когда-то ты сам посвятил меня в рыцари. А это звание дается отныне и навсегда…
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«СЧАСТЛИВ ТВОЙ БОГ, РОБЕРТИН»
Видишь, сколько ты зла наделать можешь?
Ты и честен, и добр, и чист, но страшен.
Марк Валерий МарциалБыли у него когда-то старший брат и лучший друг. И он любил их больше всего на свете.
И не было теперь в мире людей, которых бы он сильнее ненавидел.
Как это получилось? Какой дьявольский поток подхватил их жизни, прибив к разным берегам? На это он не мог ответить. Одно он знал твердо – он этого не хотел. Он любил их всей душой, всем сердцем, совершенно искренне. Так же, как теперь ненавидел. И самое худшее – он не смел ни с кем поделиться этой ненавистью. Не имел права. Ибо был прощен, пощажен и помилован. Другие поплатились жизнью, а его просто выпроводили с напутствием: «Счастлив твой Бог, Робертин». Как нашкодившего щенка. Словно он не был повинен в соучастии в покушении на преступление, равно противное Богу и людям. Цареубийстве и братоубийстве.
Эд не пожелал его видеть тогда. Конечно, он и без того знал все. Аола наверняка рассказала… перед смертью. Иногда ему приходила мысль – может быть, Эд потому и убил ее, чтобы никто больше не узнал, насколько глубоко погряз в заговоре его младший брат. И тут же отгонял эту мысль, как не имеющую ни малейших оснований. Эд убил Аолу из злобы, из мстительности, потому, что ему нравилось убивать. Он – зверь, чудовище. Но даже звери, говорят, признают родство. Вот он и признал. Не убил. А как он хотел тогда умереть!
Нет. Он говорил себе так, но в глубине души Роберт знал – это неправда. Ничего он тогда не хотел. Страх и потрясение убили в нем все желания и парализовали волю. Он не сделал ни попытки спасти Аолу, ни открыто противостоять брату. Он тихо убрался в Париж и пребывал там в некоем оцепенении около трех месяцев. И понадобилось известие о новой женитьбе брата и о том, кто стала новой королевой, чтобы его из этого состояния вывести. Разумеется, к тому времени он уже знал, кем на самом деле является Озрик-Оборотень – канцлер Фульк озаботился его просветить. И, поскольку они не виделись около двух лет, за всеми своими переживаниями успел забыть о существовании этого… существа. И вот – явление из небытия. И тогда родилась эта ненависть, жуткая, темная, неизбывная.
Но страх не умер.
Первое время он ждал, что Эд переменит свое решение и каждый день предполагал приказ явиться в Компендий либо просто появление королевской дружины под стенами Парижа. Но ничего не происходило. Однако в любое мгновение могло произойти. И он жил, тая ненависть и страх, взращивая их в одиночестве. Вызывавший насмешки своей трусостью и страстью и интригам Фульк оказался храбрее его, развязав открытую гражданскую войну. А Роберт сидел в своем городе Париже и, обнажая воспоминания, как больной сдирает корку со струпа, затянувшего рану, постоянно возвращался к вопросу: как это получилось? Как получилось, что еще до встречи он связал воедино в своем сознании этих двоих – брата Эда, истинного героя, непобедимого воина, несправедливо лишенного прав, изгнанного и оклеветанного, и школяра Озрика, слабосильного подростка, травимого и обижаемого, но такого умного, образованного и великодушного? Какое такое сходство ему померещилось в их судьбах? А может, и не видел он никакого сходства. Просто он их любил и хотел видеть обоих рядом с собой. И это сбылось – чудесным, как ему мнилось тогда, образом – на будущий год. Тогда колесо судьбы каждого из них круто шло вверх. Эд уже не был изгоем, но графом Парижским, Озрика никто бы не посмел обижать – он теперь сам кого угодно мог обидеть, а главное – в жизнь Роберта уже прочно и непоправимо вошла Аола, но он не думал, что это обстоятельство повлияет на его привязанность к брату и другу. Он ошибался. Неожиданно он сделал для себя открытие – при всех своих достоинствах эти двое не способны любить. Ни Эд, скоро и споро сколачивающий под носом у разини-императора собственную державу и не брезгающий ради этого никакими средствами, ни Озрик, деливший все свое время между воинским плацем и библиотекой, и, кажется, делавший при дворе Эда завидную карьеру, – что они могли понять в любви, нежности, душевных метаниях, поэзии, наконец? Озрик, например, одолевший чертову уйму латинских и греческих поэм, сам, по собственному признанию, и пары строчек в рифму не сложил. А у него тогда стихи изливались из сердца. Нет, эти двое не могли его понять. И он ощутил некое над ними превосходство.