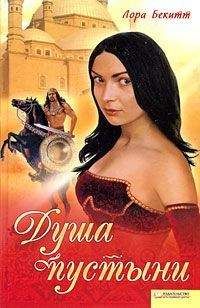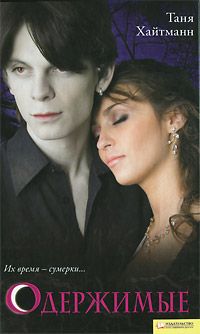Валентин Пикуль - Через тернии – к звездам. Исторические миниатюры
Брандмейстер доложил императору:
– Ваше величество, огонь-то на пороге Концертного зала, а там недалече и до Эрмитажа… Что прикажете делать?
– Тушите, – почти вяло отмахнулся царь, уже смирившись с тем, что дворец обречен, и побрел к саням, чтобы отъехать в Аничков дворец, где по нему изнылась императрица…
Вестимо, пожарные могли и не знать о гении Рафаэля, а солдаты никогда не слыхали о Корреджио, но, кажется, все люди инстинктивно осознали подлинное значение Эрмитажа, соединенного с догорающим дворцом крытою навесной галереей. Миллионная улица, ведущая к дворцу, была забита запаренными лошадьми, заставлена обледенелыми бочками, тесно было от горожан-добровольцев, которые час за часом непрестанно вручную качали тяжелые оглобли насосов, чтобы заранее окачивать Эрмитаж ледяною водой. Ветер, раздувая свирепое пламя, уже закутывал Эрмитаж едкими клубами дыма, он уже перебрасывал на его крышу снопы раскаленных искр и летящие по воздуху головни, полыхавшие в полете, словно “конгревские” боевые ракеты. Начиналась последняя, решающая битва, а водометные трубы, устремленные ввысь, теперь напоминали жерла грохочущих орудий…
Переход из дворца в Эрмитаж заранее был разрушен – от навесной галереи остались только железные брусья, на которых теперь сидели пожарные и солдаты с трубами в руках. Они заливали водою огонь, рвавшийся из руин дворца, чтобы он не переметнулся далее – на сокровища Эрмитажа. Время от времени напор пламени, выметнув из дворца длинный и жаркий язык, будто “слизывал” людей с брусьев, они с высоты падали наземь, разбиваясь об камни насмерть. Но тут же на смену павшим влезли на брусья другие, снова вонзая в алчное пекло пожара острые бивни водяного напора.
– Качай, качай! – орали сверху. – Качай, родимые…
По Миллионной неслись потоки воды, как в наводнении, а сами добровольцы-качальщики были мокрыми до нитки на морозе и даже не ощущали мороза, качая, качая, качая… Старики, бывшие в 1837 году молодыми, на старости лет вспоминали, что в людях возникло какое-то озлобление, столь необходимое для битвы: “Это был бой с силою огненной стихии, который ни с каким боем в мире сравняться не может. Тут все люди, без малейших задних помыслов, приносили себя в жертву, и преданность нашего солдата здесь выказалась начистоту…”
Нескладно это сказано, зато уж верно!
К пяти часам утра, когда люди и лошади, подвозившие воду от Невы, уже валились с ног от усталости, Эрмитаж удалось отстоять. Но Зимний дворец еще горел и догорал еще трое суток подряд. От сказочного создания Расстрелли остались закопченные стены, а внутри он был завален грудами тлеющего мусора, в котором намертво запеклись черные, как уголь, безымянные трупы. Потом день за днем множество подвод – обозами! – вывозили этот ужасный “шлак” тысячами пудов на загородную свалку, а могил погибших в неравной битве с огнем не сохранилось: свалка стала их кладбищем. В газетах о количестве жертв помалкивали, в городе об этих жертвах лучше всех знали, пожалуй, одни лишь солдаты гвардии, которые долго разгребали тлеющие завалы внутри Зимнего дворца.
Через несколько дней после пожара в Аничковом дворце, где временно расселилась царская семья и придворные, появился поэт Жуковский. Известно, что Василий Андреевич был человек учтивый, любезный и крайне деликатный. Потому-то, наверное, он и навестил императора, смущенный, чувствуя себя виноватым.
– Ваше величество, – было им сказано, – у меня нет слов, дабы выразить вам свое сочувствие, но… Желаю принести к подножию вашего престола свои глубочайшие извинения.
– Жуковский, не пойму, о чем просишь ты?
Поэту было неловко, что царь остался “бездомным погорельцем”, а он, придворный поэт, имевший во дворце казенную квартиру, нисколько не пострадал от пожара. Надо же так случиться! Стихия оказалась большой шутницей: огонь пожрал в Зимнем дворце все, что оказалось ему доступно, но чудесным образом он миновал жилище поэта, оставив его невредимым.
– Мне так неловко перед вами, – говорил Жуковский, – но, видит Бог, я нисколько не виноват в том, что огненная гидра не навестила мою скромную поэтическую обитель…
Пожар в Зимнем дворце начался 17 декабря, первое совещание комиссии по реставрации дворца состоялось 21 декабря, а 29 декабря уже было издано “Положение” о порядке воссоздания дворца в прежнем виде (и через год он возник снова, как сказочный Феникс, на том же месте, где и стоит поныне). А пока разгружалась Дворцовая площадь от завалов спасенного имущества, министерство императорского двора занималось подсчетом убытков и неизбежных пропаж. Князь Петр Волконский, как и чиновники его министерства, думали одинаково плохо:
– Конечно, пока вещи выносили солдаты гвардии, тут, надо полагать, все сойдется в идеальном ажуре. А вот когда его величество соизволил разрешить доступ во дворец народа, тут…
Так думали они, своего народа не знавшие!
Спору нет, во всеобщей суматохе пожара многое оказалось безвозвратно утеряно, много добра погибло в пламени, многое было просто переломано в спешке. Среди всякой ерунды недосчитались и царского кофейника. Как выяснилось, его украл солдат гвардии. Украл ради наживы, думая, что этот кофейник продаст с выгодой для себя. Но – вот беда! – во всем большом городе не нашел ни единого покупателя.
– Эвон, – тыкали пальцем, – никак герб туточки? Украл, рожа поганая? Так и ступай прочь – нам краденого не надобно…
Кончилось это тем, что солдата схватили вместе с кофейником и поволокли под белы рученьки в полицию, чтобы выдрать его во славу Божию. Официальное заключение Бенкендорфа гласило: “Кроме этого кофейника, ничего не было ни похищено, ни потеряно из всей гигантской груды драгоценного убранства дворца, которая и валялась под открытым небом на площади, доступная всем и каждому”.
Так что часовых с ружьями ставить не пришлось! Правда, вскоре придворные лакеи подняли великий шум из-за одной паршивой тарелки из царского сервиза:
– Мы уж все обыскали, нету тарелки. Небось украли! До чего же нонеча бессовестный народец пошел.
– Небось сами вы и стащили, – сказал им Волконский.
– Вот-те хрест святой – мы не брали.
– И Бог с ней, с этой тарелкой, – зевнул министр…
А весною, когда стаял снег на Дворцовой площади, тарелка сама по себе объявилась под лучами майского солнышка, целехонькая и невредимая. Такова, читатель, была нравственность тогдашнего простонародья – в то далекое от нас время, когда до 1937 года народу оставалось жить ровно столетие.
Теперь оставьте свою тарелку на улице, а потом спрашивайте:
– Куда делась наша тарелка?
А куда, читатель, спрашиваю я вас, делась и наша совесть?
Сын “пиковой дамы”
В один из дней осени 1844 года у московской заставы с утра пораньше толпились люди разного звания – дворяне и купцы, нищие и дворовые: ж д а л и. Ближе к вечеру вдали показались траурные дроги, обитые черным крепом, усталые коняги тяжело влекли катафалк по грязи. Тут весь народ набежал, лошадей сразу выпрягли, и люди сами впряглись в траурную колесницу:
– Ну, православные, подгонять не надо – поехали!
В город въехали затемно, появились и факелы, освещавшие траурную процессию. “Улицы запрудились народом, – писал очевидец, – но полиции не было, тишина была поразительная; многие плакали”. Люди попроще, газет не читавшие, спрашивали:
– Чей покойничек-то?
– Да наш – московский.
– А везут-то откеле?
– Да прямо из Парижа, чтобы в Москве остался…
Три дня гроб стоял в церкви Дмитрия Солунского, три дня площадь перед храмом была заполнена москвичами. Наконец состоялось погребение, а всех, кто провожал гроб до кладбища, тут же одаривали золотыми кольцами – на память об этом дне, для нищих же был накрыт стол для обильного угощения…
Светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын скончался в Париже 27 марта 1844 года, исключенный из списков российского генералитета 14 апреля того же года.
Бурная и бравурная жизнь человека закончилась.
Интересно, а как она, эта жизнь, начиналась?
У нас хорошо знают княгиню Наталью Петровну Голицыну, урожденную графиню Чернышеву, которая послужила А.С. Пушкину прообразом для его “Пиковой дамы”. О дочери ее Софье, ставшей графиней Строгановой, которая не умерла до тех пор, пока не завершила перевод дантевского “Ада”, я уже писал, но у нас плохо извещены о сыне “пиковой дамы”, который почтительно вскакивал перед матерью и садился лишь с ее сиятельного дозволения…
Конечно, княжеское детство – это не мое детство и не ваше, читатель. Разница есть, и, смею думать, немалая. Получив домашнее (и отличное!) воспитание под надзором гувернеров и строгой матери, Дмитрий с братом Борисом завершали образование в Страсбурге, который славился не только древним университетом, но и военной академией, а сидели они на одной скамье с Максимилианом, королем баварским, что никого не удивляло. Потом братья путешествовали по Европе, надолго задержавшись в Париже, еще застав Версаль во всем его былом великолепии, а на родину они вернулись накануне Французской революции.