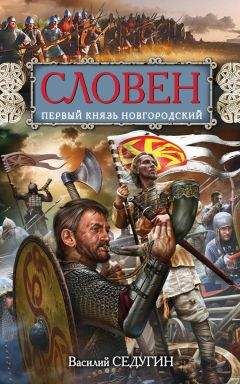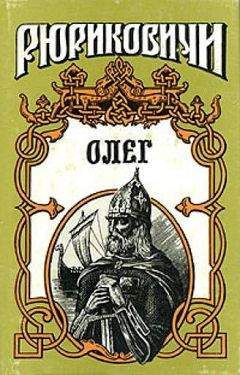Натан Рыбак - Ошибка Оноре де Бальзака
— Чудесная у вас осень, — сказал Бальзак, находя, что пора уже начать разговор.
— О, — живо подхватил Ганский, — подобной осени нигде на свете нет, господин Бальзак.
Бальзак не ответил. Разговор угас, как слабый огонек от дуновения ветра. Ганский забеспокоился, как бы иностранец не выскользнул у него из рук. Сама судьба свела их в этот полуденный час. Наконец он получил возможность сказать ему наедине то, от чего зависело многое.
— Я позволю себе пригласить вас… Буду безмерно рад, если вы посетите скромную хижину одинокого охотника.
Он остановился в аллее и показал рукой на дорожку, обсаженную по бокам густыми кустами крыжовника. В конце дорожки над прудом стоял его одноэтажный флигель.
— Вон моя тихая пристань, господин Бальзак, мое жилище, и я верю, что вы не откажете мне…
Бальзак заставил себя улыбнуться. Он кивнул головой, не очень уверенно подтверждая слова управителя, и первый ступил на дорожку. Ганский шел позади, сбивая нагайкой листья с кустов крыжовника. Он с ненавистью поглядывал на толстый затылок Бальзака. Покусывая губы, француз не торопясь шел впереди, стараясь отгадать, о чем пойдет речь с управителем. У пруда они остановились. Несколько охотничьих собак бросились с крыльца навстречу спутникам. Лай нарушил торжественную тишину. Собаки радостно приветствовали своего хозяина. Ганский затопал на них ногами, они испуганно отскочили, и только одна, длинноухая, чудесной белой в желтых пятнах масти, виновато ластилась к нему и длинным языком облизывала запыленные сапоги. Ганский, разозлясь, ожег ее нагайкой, и собака с воем отползла от него. Бальзак содрогнулся.
— К чему это? — пожал он плечами и склонился над собакой. Ее трясло как в лихорадке. Бархатная шерсть послушно ложилась под пальцами.
— Не терплю церемоний, — как бы оправдываясь сказал управитель, — их надо приучать к строгости. Охота — хитрое и сложное искусство. Мне кажется, писатели также охотники?
— Вы правы, — подтвердил Бальзак, — впрочем, не совсем.
— Я не отваживаюсь спорить с вами, — продолжал управитель, — но мне кажется…
Больше слов не было, им овладело косноязычие; спасаясь от продолжения неприятного разговора, он свистнул, и собаки снова сбежались к нему. Показав им нагайку, он поплевал на нее и забросил далеко в кусты. Собак точно ветром сорвало с места. Ганский науськивал и подгонял их властным и суровым окриком:
— Пиль! Пиль!
И вот та самая белая собака, которую он перед тем побил, принесла ему в зубах нагайку, смотря на него умоляющими, навеки преданными глазами, точно не он, а она провинилась и просила теперь прощения.
— В комнату, — приказал Ганский, и собака послушалась.
Неся нагайку в зубах, она побежала к дому, поднялась по ступенькам и исчезла за дверью.
— Она у меня самая умная, — похвалился Ганский.
— Зачем же вы ее бьете?
— Умных надо бить, господин Бальзак, — убежденно ответил управитель. — Если их не бить, они скоро забывают свое место и слишком много думают о себе…
Это уже не могло относиться к псу. Управитель отважился на неприличные намеки. Бальзак отер платком лоб, сбил с рукава паучка. Промолчал. Разговор не тек по желанному руслу.
— Мне казалось, что вы хотели мне что-то сказать?
Управитель удивился. Бальзак переходил в наступление. Этого он не ожидал.
— Вы не ошиблись, — со всей учтивостью, на какую он был способен, ответил Ганский. — Но я думаю, что нам удобнее будет беседовать в моей гостиной.
— Лучше на воздухе.
— Ваша воля. Сядемте. — Управитель шагнул к скамье над прудом.
— Благодарю вас. Я спешу и выслушаю вас так.
Последнее уже взбесило Ганского. Получалось, будто этот француз оказывает ему милость. Это было нетерпимо. Впрочем, он тотчас собьет с него спесь. Тотчас.
— Хорошо. Я понимаю. Вас ждут неотложные дела. Вы готовитесь ехать с моей свояченицей в Киев.
Бальзак едва заметно кивнул головой. Управитель вызывал у него отвращение. Кароль Ганский подошел совсем близко. Дыша прямо в лицо собеседнику винным перегаром, он сказал то, что думал, сразу, отбросив все лишние слова и всю изысканность, на которую возлагал такие большие надежды.
Тихий пруд отражал небо. Тучи, погруженные в его спокойные воды, затемняли его. На лодке, привязанной у песчаного берега, гоготали утки, с верб на воду вертикально падали пожелтевшие листья. Ветра не было. Скрестив руки на груди, прижимая к себе локтем трость, Бальзак склонил набок голову и слушал. Глаза его как будто были заняты сверхъестественной неподвижностью воды, но ни одно слово не прошло мимо его ушей.
— Я предупреждаю вас по-дружески, — продолжал, понизив голос, Ганский, — и совершенно конфиденциально, что к вам относятся с определенным недоверием, за вами следят, вы находитесь под надзором жандармерии, и для вас лучше как можно скорее выехать отсюда. Я ничего не хочу предсказывать, но для вас будет лучше… если вы уедете немедленно.
Ганский умолк. Вечно налитыми кровью глазами он внимательно вглядывался в лицо Бальзака. Ни один мускул не шевельнулся на этом лице. Бальзак развел руки, занес над головой Ганского палку, крепко сжимая ее в руке. Ганский поспешил шагнуть в сторону. Бальзак недвусмысленно улыбнулся и ударил с размаху тростью по скамье; трость переломилась, и он, сжимая в руке обломок с набалдашником, ушел прочь от растерянного управителя, не произнеся ни слова и ни разу не обернувшись. Легкий ветерок трепал его длинные волосы. Осенняя земля посылала в лицо терпкие незнакомые запахи. То, о чем он догадывался, подтверждалось.
Управитель грубо выругался, погрозил спине Бальзака кулаком и пошел к себе во флигель.
Эвелина так и не узнала об этом разговоре. Бальзак зашел к ней тотчас же после странного свидания с управителем. В передней сидела грустная Марина. Она поднялась навстречу Бальзаку, словно собираясь что-то сказать ему. Но он, погруженный в свои мысли, не заметил девушки, и она отступила на свое место, в тень между двумя колоннами, возле узкого окна. Она стояла там молча и неподвижно, не решаясь ступить и шагу, и мысли ее были сосредоточены на том, что разговор с барином, на который она возлагала большие надежды, не состоялся. А сердце подсказывало, что гость помог бы, сказал бы самой пани. И от одного слова сразу изменилась бы судьба деда Мусия и Василя… Марина напряженно прислушивалась к тому, что делалось за дверью, в комнате; оттуда доносился легкий смех, потом дверь резко открылась, и Эвелина с Бальзаком прошли мимо нее.
Она еще несколько минут постояла, ожидая, чтобы отзвучали шаги в конце длинного коридора, а затем побежала в людскую. Дворовые обступили горничную. Ничего не было сказано, но в глазах она читала сочувствие своему горю. Только старая повариха Мотовилиха тронула заскорузлыми пальцами желтый высохший подбородок и безнадежно покачала седой головой.
— Он, проклятый, уж как пообещал, то слово свое сдержит…
Все в кухне знали, что речь идет об управителе Кароле, но никто не решился подумать о нем.
— Бабуся, спросит меня дворецкий, скажите, что послали меня… — умоляюще заглянула Марина в глаза поварихе.
— Иди, дочка, иди…
Марина стремглав выбежала из кухни, на секунду задержалась на крыльце. Быстрым взглядом окинула двор. Пусто. Она тихо сбежала со ступенек и, прошумев юбкой за службами, исчезла в кустах.
Василь сидел в овраге за господским парком у пруда. Ждал, как условились, под вербою. Марина задержалась. Может, совсем не придет?
Но вот захрустели сухие ветки, словно ожил овраг, заговорил на своем таинственном, странном языке. Марина, ловя раскрытыми губами воздух и раздвигая руками ветви кустарника, цеплявшиеся за плечи, шла к нему. Она села на камень рядом с Василем, положила голову на сложенные руки, смотрела ему в лицо и молчала. А он, словно первый раз видел ее, откинулся и, забыв обо всем, любовался ею, даже легче ему стало от этого.
А горе было близко, и он не мог избавиться от его острых уколов. И не губы, само сердце спросило:
— Говорила?
Она покачала головой. И он ответил за нее:
— Нет. — И тоскливо добавил: —Не нужно. Все равно для них наше горе что ветер — мелькнет и исчезнет. Не проси!
Марина молчала. Сколько дней пронеслось перед нею в это мгновение. Сердце было словно колокол. Скорбь и отчаяние колотились в нем неустанно и тревожно. Били в набат, созывая все чувства и силы. Он сидел перед ней на камне, вороша пальцами опавшие листья, искал глазами что-то поверх ее головы, над низеньким кустарником, а злая доля окружала, сходилась кольцом над его курчавой головой. Марина не стерпела, протянула руки, взяла в них голову любимого.
Он не сопротивлялся, подождал, пока утихнет ласка, а когда Марина успокоилась, продолжал:
— И не проси. Их не умолишь. Господа глухи, Марина. Деду печенки отбил, а меня в солдаты забреет. Сказал, так сделает. Э!.. — безнадежно махнул он рукой и не докончил.