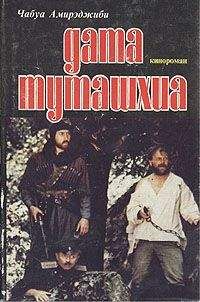Александр Сегень - Державный
— Вы замечаете, Андреа, что чем ближе к Москве, тем больше сочных русских слов вам припоминается? «Ушкуйница»!
— Честно говоря, меня всё сильнее охватывает волнение, — продолжая говорить по-русски, признался Андрей Иванович. — Четверть века назад, двенадцатилетним юношей Андре, я прибыл в Московию, ещё не думая, что она станет моей большей Родиной, нежели та, в которой я появился на свет. Эти два года, что я провёл в Европе, были упоительны, и так часто мне, грешным делом, казалось, будто и не хочется возвращаться. Но теперь…
Он хотел продолжить, но почувствовал, как ещё немного — и слёзы выплывут из его глаз. Пред кем угодно мог бы он обнаружить выплеск нахлынувшего на него щемящего чувства любви к Московии, только не перед этим циником делла Вольпе, превосходным лицедеем, а посему и отменным дипломатом, способным врать без зазрения совести и с великим даром изображать, когда надо, сильные чувства. Уж он-то мог бы прослезиться лишь в одном случае — для пользы дела. Не зря Иван Васильевич именно Вольпе поручил поездку в Рим к царевне Зое, а Андрея Ивановича снарядил ему в помощники.
По-своему Андрей Иванович любил Джан-Батисту, был к нему привязан и, уж конечно, не мог не восхищаться огромным количеством дарований этого человека — монетного мастера, литейщика, художника, скульптора, полиглота, певца и даже стихотворца. Они были знакомы уже пятнадцать лет, с того года, как Джан-Батиста объявился на Москве. К тому времени Андре де Бове, в крещении ставший Андреем Ивановичем Бовою, уже успел потерять всех своих спутников, с коими весной 6954 года прибыл в Муром. Дядя Бернар погиб тогда же, а верные слуги Роже и Пьер — несколькими годами позже. Иногда ему всё же до чёртиков хотелось поболтать с кем-нибудь по-французски, и появление Джан-Батисты оказалось как нельзя вовремя. Вскоре он увлёкся монетным делом и стал подмастерьем у итальянца-ровесника, оставаясь верным слугой и телохранителем государя Ивана Васильевича, который, кстати, приходился ему крестным отцом, хотя и был на пять лет моложе. Через Джан-Батисту пролегал для Андрея Ивановича мостик в далёкое-далёкое детство. И с годами он прикипел к итальянцу душой… Только вот, к слову, о душе — одно сильно смущало Андрея Ивановича: есть ли у делла Вольпе душа как таковая? Уж слишком легко он относился ко многому, что Андрею Ивановичу казалось глубоким и священным — вера, верность, долг, служба…
Впрочем, службу Иван Вольпа исполнял добросовестно, и вот теперь они ехали к государю Московскому, выполнив все его поручения, везя от Папы Павла охранные грамоты, по которым послы великого князя «до скончания мира» могли теперь вольно путешествовать в Рим и обратно. Везли они также додарки, а главное — парсуну[29] византийской принцессы, писанную замечательным художником Мелоццо, который один лишь сумел отобразить прекрасную белизну кожи Зои, тонкость её черт, нежность взгляда. Уже когда покидали Рим, объявился другой живописец, похваставшийся, что ещё лучше напишет лицо красавицы Зои, и Антонио Джисларди, третий их спутник, вынужден был задержаться. А они уж спешили — и так почти два года провели в Италии, Провансе и Аквитании.
Вид Кремля почти не изменился, и если в сырую, дождливую погоду московский детинец выглядел бы бессмысленным нагромождением тёмных крыш, бурых бревенчатых стен, закопчённых полукаменных башен с тоскливо-чёрными провалами бойниц, то сейчас, после знойного июньского дня, в румяных лучах заката Кремль был похож на уютный сосновоигольчатый муравейник, вспухший посреди широкой грибной поляны, радующийся животворному летнему теплу. Из-под Большого моста выныривали ладейки, легко бегущие под нарядными расписными ветрилами, раздувались широкие паруса тяжёлых стругов, у пристани суетились мелкие лодочники. Ветер дул в лицо, и гребцам большого струга, на котором подплывали к столице Ивановы посланники, приходилось утруждаться, толкая корабль к главном причалу. В какой-то миг купола и крыши Иоанна Предтечи, Спаса на Бору, великокняжеского дворца, гридни, Успенья и Лествичника выстроились в одну линию, нависая друг над другом сверху вниз по холму, как жемчужины в ожерелье, а потом — разбежались, Предтеченская церковь и монастырь Спасский влево ушли, гридня и Успенский собор с храмом Иоанна Лествичника попрятались за хоромами огромного, если не сказать — громоздкого, дворца, углы, теремки, повалуши и гульбища которого торчали в беспорядке во все стороны, а вскоре и его заслонила собой воздвигшаяся над основным причалом Пешкова башня, на две трети сложенная Дмитрием Донским из белого камня. Только когда он был белый? Тогда ещё, а с тех пор от дымов-пожаров забурел камень, покрылся толстым слоем копоти. Закатная медь блеснула в струях Неглинной, по которой быстро сновали лодки купцов, подвозящих товары к крытым лавкам Занеглименного торга. Боровицкий мосток был поднят, и подле него велась чья-то драка. В глазах Андрея Ивановича защипало почти так же, как щипало в ужаленном осой месте на щеке, и пришлось-таки ему раздавить кулаком две тёплые слёзы. Когда струг грюкнулся о причал, Бова одним из первых заспешил спрыгнуть на гулкие доски.
— Ветерок-то — по Тверской дорожке вьётся, — услышал он разговор двух москвичей, кого-то тут, видно, встречающих, — прямо в спину государю нашему, на Новгород!
— А разве Иван Васильевич уже выступил из Москвы? — всполошился Андрей Иванович, зная о том, что все главные воеводы отправились в поход и со дня на день ожидалось выступление самого великого князя.
— Завтра, — отвечал ему москвич. — Даст Бог, и завтра туды ж будет дуть. А ты, боярин, чай, не здешний будешь?
— Здешний, здешний, — улыбнулся Бова, — да вот только давно дома не был, из далёких стран еду.
— А, позволь спросить, тот вон — не Иван ли Фрязин? Не тот ли, что монетчик знаменитый?
— Он самый, — отвечал Андрей Иванович. — А меня, часом, не узнаешь?
— Не Бова ли?
— Я!
— Батюшки святы! Андрей Иваныч! Похудели-то как, и не узнать вас, а были тучны, пригожи, я помню вас, очень полнота ваша была глазу приятная.
— Ну уж, — смутился Андрей Иванович. — Пирогами московскими отъемся.
— Не больны ли? Нет? — не унимался москвич, которого Андрей Иванович и знать-то не знал. А народ любопытен до придворных.
— Здрав.
— Сказывают, вы за морейскую царевну сыр ломать ездили?
— Они сыр не ломают, у них иначе всё.
— Так сговорились ай нет?
— Сговорились. И парсуну её привезли.
— Ах, вот уж поглядеть-то бы!
— Саму скоро привезём, тогда и насмотритесь, — уже сердито буркнул Андрей Иванович, досадуя, что затянул беседу с простолюдином. Скажите, пожалуйста, знают даже, что Зоя не константинопольская, а морейского деспота дочка!
Он отправился отслеживать, чтобы все сундуки, ларцы и укладки с подобающей бережностью со струга сгрузили. Настырный московит и тут увязался:
— А любопытствую, кто сей с Иваном Фрязином молодец, нарядный такой? Лицо ново.
— Дьяк… Шёл бы ты, братец, своей дорогой, на вот тебе пулик[30], выпьешь за наш приезд.
— Зело благодарны! С приездом, Андрей Иваныч! Кажется, отстал. Экий любознайка! Пойдёт теперь языком чесать, да ещё напридумывает небылиц каких-нибудь. А ведь Джан-Батиста просил зачем-то дьяка Тревизана выдавать за своего племянника. С каким умыслом, непонятно. И не нравилось это Андрею Ивановичу, да слово дал.
Вскоре, погрузив весь скарб и поминки[31] на большую повозку, отправились вдоль набережной стены по кремлёвскому подолу в сторону Тимофеевской башни. Обогнув её, доехали до Фроловских ворот, там предъявили грамоту и вошли в Кремль. Двинувшись по улице, миновали церковь Флора и Лавра, Девичий монастырь, Баскачий двор, и вдруг — словно чудо малое! — из ворот богатого дома бояр Свибловых чинной поступью шёл — кто б вы думали? — сам игумен Чудова монастыря Геннадий с иеромонахом Фомою, точь-в-точь как двадцать пять лет назад под Муромом! Вот так встреча!
— Крестный! — воскликнул Андрей Иванович вне себя от радости, что видит родное лицо. Геннадий вкупе с Иваном Васильевичем крестил Андре де Бове, обратив его в Андрея Бову.
— Андрюша! Приехал! Ай, радость! — в свою очередь обрадовался игумен. — Долго тебя… Где ж ты пропадал?
— Всё поведаю. Благослови, крестный! Благословясь у Геннадия и отметив, что борода у него, наконец, начала расти, как следует, обнялся с Фомою, который брякнул по-французски, как говорят русские, а не французы:
— Ma lumiere lumineux[32]!
Поздоровались с Вольной и Тревизаном, которого Вольпа представил-таки племянником.
— А мы вот старого Свиблова хромого соборовали, — пояснил своё здесь присутствие Геннадий. — Богатый человек. Мне, говорит, подавайте только игумена Чудовского, не меньше. Хорошо, не митрополита! А нам выгода, в монастыре много чего подкрасить надобно, я не отказываюсь… Так вы давайте теперь к нам. Во дворец и не помышляйте, там теперь всё равно как накануне Всемирного Потопа, до вас никому дела не будет. Может, только завтра утром, когда полностью снарядятся, выпадет вам мгновеньице свидеться с государем. Мы кого-нть пошлём про вас оповестить, авось пригласят, а не пригласят — у нас переночуете, посмотрите, как кельи подновились, а завтра вкупе с Иоанном двинетесь, по дороге ему докладываться будете.