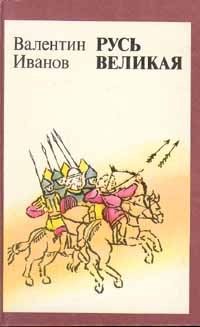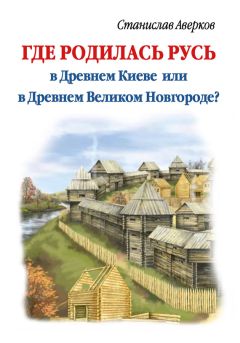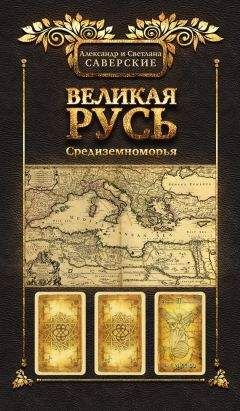Андрей Упит - На грани веков
Клав и Симанис согласно кивали, смелые слова всегда укрепляют дух. Но Букис еще почесался и проворчал, скорее уж про себя:
— Мушкеты, оно, конечно, да что толку-то, когда еле в коня попадаем, а калмык, он уж тебя и за глотку хватает.
И против этого нельзя спорить: в стрельбе у всех сноровки маловато. Но Мартынь не отступал; по его мнению, обращаться с мушкетом они еще научатся, косоглазые же опасны только для немощных стариков да для ребят в люльке, а против латышских богатырей — тьфу, что оводы, что мошкара болотная. Надо только, чтоб глаза были зоркие, сердца смелые, руки твердые, а тогда все будет хорошо…
После затяжных дождей ночи теперь все время стояли прохладные. Оно бы и неплохо, комары больше не осаждали, но зато, чуть отойдешь от костра, лесная сырость и туман пробирают до костей. Юкум с одним из болотненских, наряженным в караул, прикорнули в затянутых дымом кустах опушки, вытоптанных копытами некованых лошадей, шагах этак в пятистах к востоку. Небо местами затянуто тучами, но где-то за деревьями светит месяц, окрестность видна довольно хорошо; кругом тишина, чуть слышно шелестит ельник, различим самый далекий и легкий шум. Болотненский временами что-то ворчал о проклятом сосновском кузнеце и о том, как над живыми людьми измываются. Юкум, передрогнув, и без того был зол, а тут еще этот нытьем донимает; наконец, он даже прикрикнул на него куда грубее, чем следовало:
— Да замолчишь ты, лапотник несчастный! Вот двину прикладом по зубам, глотку и заткнешь!
По погоде и по луне можно было предположить, что уже около полуночи, а значит, караул должен смениться. Юкум наказал болотненцу быть особенно настороже, покамест его не сменят два других караульных, а сам направился к жилью. Костры посреди двора уже прогорели и почти погасли, обессилевшие за день ратники не хотели подыматься, чтобы подкинуть дров, а спали, съежившись, укутав головы кафтаном и обогреваясь собственным дыханием. Остатки клети почернели, и лишь на месте хлева еще тлел навоз, оттуда временами выбивалось умирающее пламя, кидая трепетный отблеск на становище. Обойдя горевший в стороне костер Инты, Юкум все же остановился и обернулся, пытаясь разглядеть во тьме, — послышался какой-то подозрительный шум. Юкуму показалось, что он даже заметил, как там что-то шевельнулось. Может, у Инты что-нибудь стряслось с дитем? Юкум направился туда, осторожно обходя спящих людей, но внезапно застыл от неожиданности. Трепетное пламя кинуло узкую полосу, осветив кувыркающийся клубок. Юкум увидел Ингу Барахольщика, тот навалился на Инту, мял ее и, видимо, зажимал девушке рот, так как она, вырываясь, взмахивала руками и, точно телушка, мычала. В первую минуту Юкум не понял, что там творится, но потом, уяснив все, смекнул и даже побагровел от гнева и стыда. Взревев, он кинулся туда, схватил Ингу за шиворот, рванул, потряс, как мешок соломы, и ткнул в землю.
— Скотина! Свинья! Да как ты посмел!
Двинул его прикладом, но в темноте угодил лишь в плечо. Инга, заорав, растянулся плашмя, патом попытался встать — хоть бабник он был известный, но и трус порядочный. Тут подскочила Инта; захлебываясь и нещадно кляня его, она ухватила пылающую головешку и ткнула Инге в лицо, так что искры посыпались. Тот опять вскрикнул, но Юкум, точно клещами зажав, заставил его стоять на коленях. Медведь залаял, от шума проснулись люди, похватали мушкеты, разворошили пламя в кострах и кинулись к ним. Расспрашивать было ни к чему: Инта сама во весь голос расписала его гнусный поступок. Наконец, Инга поднялся, щупая обожженный и разбитый нос, и попытался вывернуться.
— Да я только встал и хотел в костер подкинуть, а она сразу же и орать невесть что. Стыда нет у девки!
— Сам ты бесстыжая рожа! Поглядите только на него! Придушить меня хотел.
Вид у негодяя был такой, что ни у кого не оставалось ни малейшего сомнения в его подлинных намерениях. Но он привел себя в порядок и продолжал врать:
— Была нужда ее душить, — только рот чуток зажал, а то орет попусту да людей тревожит.
Инту приходилось удерживать, чтобы она не вцепилась ему в лицо.
— Да он хуже калмыка!
Сосновцы свирепо надвигались на него, Клав занес могучий кулак.
— В клеть — в огонь его, как того калмыка!
Но до этого дело не дошло. Побледнев, сверкая глазами, Мартынь приказал хриплым от гнева голосом:
— Связать этого пса! Двух караульных приставить — до утра, а тогда получит по заслугам!
Старшие — Клав и Симанис — сами связали Инге руки и ноги и бросили возле костра. Видимо, не очень-то пожалели — связанный извивался и охал. Ребенок проснулся и захныкал. Инта поспешила к нему. Яна и Тениса нарядили охранять Ингу. Тот стонал, стараясь разжалобить караульных:
— Братцы, ослабьте чуток веревки, руки затекли.
Те лишь головой покачивали.
— Не велено! Лежи, калмык этакий, будешь знать, как нашу девку лапать!
Немного погодя Инга вновь заканючил:
— Переверните на спину, судорога ноги сводит.
Тенис почесал за ухом и поглядел на товарища, но Ян был неумолим.
— Сказывают тебе, не велено! Она же тебе ноги твои залечила, а ты ее за это, как пес, кусать кинулся. Погоди ужо, вот утром взгреют как следует, так по-иному сведет!
Инга замолчал и тихонько заплакал, — и Тенис утер глаза рукавом.
Ополченцы уже не ложились, все равно скоро светать начнет. Сосновцы и лиственцы стояли кругом костра и, суча кулаками и скрипя зубами, обсуждали случившееся. Все они полюбили Инту, и то, что этот скот вздумал на нее покуситься, просто взбесило их. Болотненцы, нахохлившись, прикорнули вокруг своего костра и исподтишка поглядывали на стоявших. Ясно видно было, что, по их мнению, с Ингой поступили несправедливо. Вот и узнай поди, какие планы про себя они вынашивают.
Мартынь отозвал в сторону старших. Он уже овладел собой, отблеск костра кидал сумеречные тени на суровое лицо кузнеца. Старшие не решались первыми слова вымолвить — этаким вожака за время похода они еще не видали. Наконец он резко повернулся к Букису.
— И кто вы, болотненцы, такие, — люди вы либо скоты, звери лесные? Что я с вами поделаю, когда настоящая война с калмыками начнется, ежели вас сейчас надобно веревками, как бешеных, вязать!
Старшой болотненских долго шлепал губами, пока не пробурчал:
— Где уж им с лиственскими тягаться… Забитый народ, бедный!
— Да причем тут бедность, коли ваш Инга подобное свинство чинит?
— Инга, он один, остальные не такие. А только ноги у них в лаптях преют, одежа по лесам поободралась, у иных и харч-то весь вышел — сухари почитай что съедены, стак прогорк, творог заплесневел, в туесках с капустой черви завелись, с болотной воды — понос, потому и недовольство.
— А нам что, лучше, что ли? Мы-то жареное-пареное едим, пивом запиваем? Так чего же вы хотите? Война, ведь она не толока, где откормленных подсвинков режут, а вечером до упаду пляшут.
Букис не отступался.
— Они говорят: не хотим мы тут дохнуть, как овцы, которых в болото загнали. Зубы они на тебя точат, кузнец.
— Пускай точат, покамест совсем не сточат, да только пусть скажут, чего им надобно?
— А это куда как просто и ясно: они хотят по домам.
Мартынь стукнул кулаком о землю.
— Чтобы я этаких разговоров больше не слыхал! Одного калмыка мы пришибли, а где остальные? По домам и в соломе дрыхнуть, пока они и к нам не заявятся? Огонь под солому — и спалят, как вот этого старика, детей в люльках стрелами проткнут, этого вы хотите, да? Бабы вы, вот кто, да я из вас сделаю солдат! Перво-наперво порядок должен быть в стане, а то калмыки нас и впрямь, как овец, в болото загонят. Лучше одним этаким Ингой Барахольщиком меньше, нежели всему свету на посрамление скотами стать.
Несколько ратников из отряда Букиса подползли поближе, чтобы подслушать, но он накричал на них и прогнал прочь. Мартынь отвел старших еще дальше, и совет продолжался.
С рассветом объявили приговор. На опушке срезали пук гибких ивовых розог. Ингу развязали, но он не поднялся, а продолжал лежать, охая, зажмурив глаза, на обожженном лбу у него вздулся большой волдырь, — то ли на самом деле Инга обессилел, то ли прикидывается. Перевернули ничком, штаны стянули, рубаху заворотили на голову; один человек навалился на ноги, другой прижал шею. Мегис, недобро улыбаясь в бороду, стал за кнутобоя, сосновцы и лиственцы обступили кругом, с ружьями в руках поглядывали за болотненскими, что стояли поодаль тесной кучкой, злобно глядя сюда. Сначала Инга орал истошным голосом, хотя рот его уткнулся в траву, — точно из-под земли слышался крик. Но потом он затих, и, когда наказание кончилось, Инга вскочил как встрепанный, притихший, затаив злобу. Понурившись, потащился к своим. Мартынь, подняв руку, воскликнул:
— Так будет с каждым, кто станет вести себя, как скотина, и позорить все войско! С каждым, кто станет болтать о тяготах и о том, что надо поворачивать домой! Настоящая война только начинается. А теперь — смирно! Мушкеты на плечо! Шагом марш!