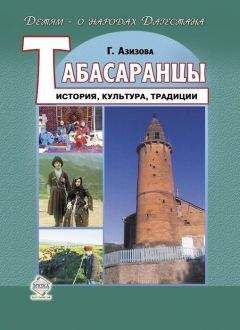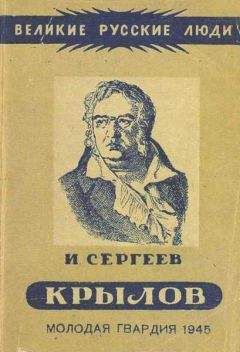На скалах и долинах Дагестана. Перед грозою - Тютчев Федор Федорович
— Я же тебе говорил. Оставь его в покое, пусть лежит хоть до вечера, а там видно будет.
Азамат в раздумье поцокал языком, почесал ногтем свою бритую голову и, махнув рукой, отошел от Спиридова, оставив подле него Ивана.
Прошло достаточно времени, раньше чем Петр Андреевич тяжело открыл глаза и осмотрелся кругом усталым, апатичным взглядом.
Около него на корточках сидел Иван и с некоторым не то страхом, не то любопытством рассматривал его лицо.
Должно быть, в лице Спиридова ему показалось что-то особенное, потому что он сочувственно спросил его:
— Что, ваше благородие, дюже не можется?
— Ослаб очень, — тихим голосом прошептал Спиридов, глядя в лицо Ивану и не ощущая в себе ни малейшего следа той ненависти, которая душила его еще вчера при виде этого человека. Напротив, сегодня он ему даже нравился.
Это был человек лет 32–35, небольшого роста, широкоплечий, один из тех, про которых принято говорить: неладно скроен, да крепко сшит. Скуластое широкое лицо с рыжими, по-чеченски подстриженными усами и круглой бородой было испещрено рябинами и носило печать природного добродушия, плутовства и беззаботности. Голубые глаза, большие и немного наглые, смотрели насмешливо, и в то же время в глубине их зрачков под этой насмешливостью как бы скрывался, чуть тлея, огонек затаенной печали. Одет он был, как и прочие горцы, в рваную черкеску, большую папаху и бурку. У пояса болтался кинжал, за плечами ружье.
— А мы думали, — слегка усмехнувшись краями губ, снова заговорил Иван, — что ты, ваше благородие, помер. Азамат тебе уж голову собирался резать.
— Я слышал.
— Слышал? Вот чудно, а со стороны смотреть — совсем у покойничком лежал. Стало быть, это у тебя болезнь такая. Часто с тобой приключается?
Спиридов промолчал.
Такие припадки с ним за всю жизнь были только два раза. Первый раз, когда ему было 8 лет. Отец, не разобрав хорошенько, в чем дело, подвергнул его жестокому и позорному наказанию. Он снес его с изумившим тогда всех стоицизмом, но затем впал в какой-то странный не то сон, не то столбняк. Целый день продолжалось это странное состояние, похожее на каталепсию. Родители не на шутку перепугались за его жизнь, и с тех пор, несмотря на всю свою горячность, отец ни разу не тронул его пальцем и всегда щадил его самолюбие. Другой припадок, но значительно слабее первого, с ним произошел в тот памятный день, когда он, оскорбленный до глубины души, но несмотря на это полный страстной любви, вернулся от Элен после их последнего объяснения. Третий припадок случился теперь.
Не дождавшись ответа, Иван заговорил снова:
— А не хочешь ли ты, ваше благородие, есть? Небось отощал?
— Не знаю, — усталым голосом произнес Спиридов.
— Как не знаешь? Чудно, брат, — разорялся Иван, — ты когда же ел?
— Вчера утром.
— Утром? А теперь уже дело к вечеру идет. Как же не хочешь есть? Постой, я принесу тебе чего-нибудь. Хоть не важно едово-то у нас, а на пустое брюхо и за то спасибо скажешь.
Иван вскочил на ноги и развалистой походкой пошел к расположившейся невдалеке от прочих татар группе из трех человек. Хотя люди эти одеты и вооружены были так же, как и прочие разбойники, но зато во всем остальном резко отличались от них. Их широкие лица, русые волосы, массивность костей и могучая неуклюжесть движений при первом же взгляде выдавали русскую национальность. Все трое были дезертиры. Один казак, остальные армейские пехотинцы. Лица у всех троих были сумрачны, особенно у казака, которого звали Филалей. Он лежал, нахмурив рыжие брови, и когда Иван подошел к ним, окинул его злобно-насмешливым взглядом.
— Слышь, ребята, — заговорил Иван, — а ведь его благородие совсем плох. Едва ли они его пешком идтить заставят.
Ответом на слова Ивана было глубокое молчание. Очевидно, к его известию все трое отнеслись более чем безучастно.
— А жаль; парень быдто хороший. У меня на это нюх есть, сичас человека узнаю, каков он, добер тоись или нет.
И на эти слова не последовало никакого ответа.
— Я думаю, братцы, Азамата как-нибудь уломать. Пущай на свою клячу посадит.
— Посадит, жди, — буркнул один из дезертиров, высокий, рослый мужчина, черноглазый, с цыганским лицом. Звали его Сидор.
— Ежели ему втолковать как следует, то, конечно, посадит. Надо только, чтобы он понял свою выгоду. Вы вот что, братцы, ежели я что говорить буду, поддержите, слышите?
— Пожалуй, нам все едино, а только с чего это тебе о нем такая сухота пришла, — сродственник, что ли, какой?
— С привычки, — злобно усмехнулся Филалей, — сколько лет при господах холуем состоял, вот у него и доселе по них сердце мрет.
— Не бурчи, дядя Филалей, — мы хоша и действительно, как ваша милость выражаться изволите, в холуях были, да и то не в холуях, а в денщиках, да зато в трех боях участвовали, походы ломали, может быть, и Егорья получили бы, да не потрафилось. А твоя милость, кажись, только по тюрьмам да по этапным дворам променаж имели, пока в горы не ушли.
— Зубоскал, корявая форма, сам рано ли поздно в тюрьму попадешь, а то и на осину.
— Всяко случиться может, однако я за делом пришел. Ей, Акимушка, не человек, а скотинушка, — обратился он к третьему, такому же приземистому и коренастому, как и он сам, молодому парню с загорелым красивым лицом и серебряной серьгой в левом ухе, — достань-ка мне мою торбу, там, подле тебя. Надоть его благородие подкормить, со вчерашнего утра не ел.
Говоря так, Иван развязал свою торбу и торопливо начал вынимать из нее завернутые в грязную тряпку куски овечьего сыра, похожего на мыло, и превращенные в окаменелость чуреки.
— А ты, слышь, господин денщик, — снова привязался к Ивану Филалей, — ты бы твоему благородию киклетку изжарил. Не впервой, чай, кухарить, не забыл еще.
— Киклетку! — добродушно передразнил Иван. — То-то, язык-то суконный, и назвать-то по-настоящему не умеешь. Необразование.
— Куда мне уметь. Я барских тарелок отродяся не лизывал.
— Еще бы тебя с тарелок кормить, тебе и плошку дать, так плошке обидно станет.
— А ну вас, сведенные, не надоело еще вам грызться-то, — махнул на них Сидор. — Кш… окаянные.
— Не трожь, это мы любя. Потому приятели.
— Черт тебе приятель, — грубо огрызнулся Филалей, — такой ужо язык у него, за все чипляется, как репейник.
— И чего языком чешут, — вздохнул Аким, — нет того, чтобы помолчать.
— А для чего же молчать? — полюбопытствовал Иван.
— А для того, что умные люди всегда молчат.
— Так, верно. В самую центру попал. Я сам всегда так думал. Когда я еще в полку служил, у нас в роте медведь ручной был. Никто от него никогда слова не слыхивал, а такая умная была скотина, что и сказать невозможно, немного разве глупей тебя.
— Бреши, бреши, перебрех собачий, — флегматично произнес Аким. — Ну и язык — язва. На том свете беспременно черти тебя на крюк за него повесят.
— А ты про то их спрашивал?
Сказав это, Иван весело рассмеялся и тою же развалистой походкой вновь направился к Спиридову.
— Вот, ваше благородие, принес, ешьте; смотрите только, зубов не поломайте — еда мягкая, черт кусал, кусал, да нам послал.
Спиридов равнодушно, не поблагодарив, взял из рук Ивана сыр и чуреки и принялся медленно и апатично жевать.
Несколько минут длилось молчание.
— Зачем ты вчера остановил меня? — вдруг совсем неожиданно спросил Спиридов, но в голосе его не было ни упрека, ни досады.
— Черт меня знает, — почесал затылок Иван, — я теперь и сам не рад.
— Рад не рад, а сколько народу сгубил; кроме меня, еще четырех.
— Это каким же манером?
— А так, брат. — И Спиридов рассказал Ивану о своей поездке через горы и оставленных им казаках. — Теперь они все перебиты, — со вздохом заключил он свой рассказ. — И виноват ты.
— Ах ты, Господи, грех какой! — с искренним сокрушением покрутил головой Иван. — Вот кабы знать. Так ведь я сдуру, больше шутки ради. Вижу, скачешь. Дай, думаю, подурачу, посмотрю, поверит али нет, а ты и поверил. Неужли ж мы и взаправду на охотников похожи были?