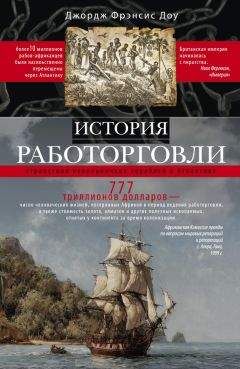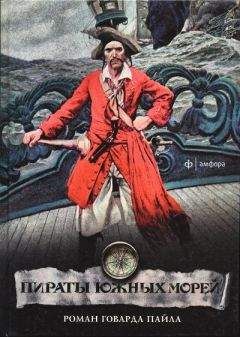Павел Саксонов - Приключения доктора
— Совсем?
— Совсем. От приюта нам пришлось отказаться.
— И тогда…
— Тогда мы попытались организовать что-то вроде посреднического общества.
— А это как?
Варвара Михайловна усмехнулась:
— Вот видите: вы даже о нем ничего не знаете — настолько кратким было его существование!
— Но что же это за общество?
— Мы открыли газету. В нее мы предложили давать — бесплатно! — срочные объявления о найденных животных, причем безразлично: домашних потерявшихся, бродячих изначально, с породами и без — о любых. И тут же — объявления от тех, кто хотел бы взять их себе. Кроме того, мы поместили адрес, в который мог обращаться каждый желающий принять к себе какое-нибудь животное. Газета распространялась бесплатно: мы на собственный счет наняли мальчиков-курьеров, и эти мальчики разносили тираж по домам. Но продолжалось это недолго: мы и успели-то сделать лишь несколько выпусков!
— Но теперь-то что пошло не так?
— Нас снова вызвали в Градоначальство. Нам снова объяснили, что затеянное нами предприятие входит в конкуренцию — нет, вы только подумайте: в конкуренцию! — с городскими объявлениями в Ведомостях. Нас попросили прекратить.
— Ушам своим не верю!
— Вот и мы не поверили. И продолжили выпуск. Но уже через несколько дней наш очередной тираж был арестован. А затем и вовсе нашу газету перевели на обязательную цензуру[42], что сделало дальнейшие выпуски невозможными: их попросту не пускали в печать!
— Но это произвол!
— Да: самый настоящий. Мы так и заявили.
— И вам…
— Нам посоветовали: обращайтесь в суд!
Околоточный закусил губу и покачал головой: он лучше других присутствовавших знал: если уж Градоначальник что-то решил, тягаться с ним по судам — затея бессмысленная!
Пётр Васильевич:
— Но вы не сложили руки?
— Нет. Но всё окончательно пошло наперекосяк. А уж когда Клейгельс — чтоб черти вытряхнули из него душу! — затеял эти свои реформы под видом борьбы с заразными заболеваниями[43], стало совсем плохо. Что бы мы ни начинали делать, за что бы ни брались, нас уже попросту гнали взашей, да еще и с обвинениями: мы-де заняты деструктивной деятельностью, мы-де ратуем за то, чтобы в Городе все животные перемерли от всякой заразы! И вот тогда-то нам не осталось ничего, кроме как попытаться довести всё это до абсурда. Мы решили, что в сложившейся ситуации именно абсурд поможет привлечь внимание широкой общественности к нашим проблемам. То есть не к нашим, конечно, как таковым, а к проблемам защиты животных!
— Так вот откуда эти плакаты!
— Конечно.
— И эти пляски!
— Разумеется.
— И ведь, что поразительно, — Петр Васильевич хлопнул себя по ляжкам, — на этот раз у вас получилось!
Варвара Михайловна пожала плечами, но вместе с тем и кивнула головой:
— Как вам сказать… И да, и нет. С одной стороны, конечно, нам удалось привлечь внимание. Но с другой, что это за внимание? К чему? Или к кому? Теперь газеты наперебой рассказывают о наших акциях, а уж в округе мы стали до некоторой степени знаменитостями. Но не такой известности мы добивались, не таких публикаций! Мы думали, среди газетчиков и обывателей хватает разумных людей: им, — надеялись мы, — не составит труда понять, отчего же именно так, а не иначе, мы поступаем. Но мы ошиблись. Газетчики осмеивают нас. Обыватели от нас шарахаются, как от чумных. Если мы чего-то и добились, то разве что того, что теперь — ко всему прочему — нас повально считают еще и сумасшедшими!
Петр Васильевич смутился и не нашел, что возразить.
Околоточный:
— Вам следовало действовать тоньше!
Варвара Михайловна вскинула взгляд на околоточного, усталость в ее глазах и грусть стали особенно отчетливы:
— Куда уж тоньше!
Она хотела добавить что-то еще, но тут от ворот послышался строгий и явно привыкший вызывать повиновение голос:
— Я так и знала, что это — здесь!
Все обернулись: у входа на ферму стояла Анастасия Ильинична — директриса женских курсов из дома Ямщиковой.
Слишком холодно и тревожно
К вечеру, когда непогода рассвирепела вконец, и ветер, поднявшийся еще днем, превратился в шторм, рабочие оставили стройку, побросав инструменты как придется. Их не слишком волновала сохранность: строительство велось на церковном участке, участок хорошо охранялся, да и тут же — в непосредственной видимости — находился вход на Смоленское православное кладбище, а значит, и кладбищенский сторож мог видеть происходившее. Правда, злые языки поговаривали, будто сторож не очень-то высовывал нос за пределы своей сторожки, иначе как еще можно было объяснить вот уже второй год подряд происходившие на стройке странные вещи?
Странности случались по ночам, когда рабочих на участке не было. Но так как странности эти имели ярко выраженный благотворный характер, их, удивляясь им, не расследовали. Точнее, раз или два — с подачи инженера Брусова — пытались устроить засаду, но из затеи ничего не вышло: аккуратно в самые ночи засады ничего и не происходило! А позже смоленский[44] настоятель Сперанский — формально именно он выступал заказчиком строительства — категорически запретил подобные затеи: нечего, мол, вмешиваться в естественный ход событий.
Рабочие перекрестились, Брусов пожал плечами: в отличие от рабочих, вполне воспринявших определение «естественный», инженер был слишком хорошо образованным человеком, чтобы с ним согласиться. На его взгляд, ничего естественного в происходившем не было. Скорее, за всеми происшествиями на стройке таилось что-то необычное, причем настолько, что выходило из ряда вон. Конечно, — думал инженер, — и таким событиям можно постараться найти объяснение физического характера. Вот только сделать это будет не так-то просто! Ведь если поначалу всё ограничивалось перекладкой с места на место небольшого количества кирпичей, то позже — когда стены взметнулись ввысь, а строительные леса побежали по ним в самое небо — кирпич, с вечера оставленный в штабелях на земле, утром оказывался на верхних уровнях! Скажите на милость, — сам себе задавал вопрос инженер, — кому такое было под силу?
Физическое объяснение, — продолжал размышлять Иван Яковлевич, — могло быть только таким: неизвестная бригада помощников-благотворителей — в количестве не меньшем, нежели было количество «официальных» строителей — ночами проникала на стройку и делала то, что делала: исходя, очевидно, из желания всемерно ускорить строительство.
Объяснение это казалось вполне разумным, и все-таки верилось в него слабо. Почему? Иван Яковлевич и сам понять не мог. Возможно, сказывался опыт: мало ли в столице было построено — а также и ныне строилось — православных церквей, и ведь ни при одной из них ничего подобного не было! Ни разу еще не случалось так, чтобы невесть откуда взялись пожелавшие остаться неизвестными помощники. Ни разу не случалось так, чтобы помощники эти тайком проникали на стройки и с места складирования к месту укладки таскали кирпичи!
Но было и кое-что еще, что заставляло инженера сомневаться в единственном разумном — на взгляд образованного человека — объяснении: следы. Точнее, их полное отсутствие! Не год и не два проведя на самых различных стройках, Иван Яковлевич понимал, что называется, крепко: не бывает такого, чтобы целая орава людей не оставляла после себя никаких следов. А уж в весеннюю или осеннюю распутицу, в ливневые ночи летом, в заснеженные — зимой… при всех таких обстоятельствах — подавно! Отсутствие следов наталкивало на мысль… но, впрочем, от этой мысли Иван Яковлевич предпочел отмахнуться: уж слишком она была ему не к лицу!
В вечер дня описываемых нами событий строители покинули стройку пораньше: работать в условиях штормового ветра не было никакой возможности. Они, как мы уже сказали, без всякой заботы о сохранении бросили свои инструменты: украсть их — по их разумению — никто бы не решился.
И вот — едва окончательно стемнело, а снег вперемешку с ледяною крошкой полетел уже не столько на землю, сколько параллельно земле — со стороны кладбища появилась женщина. Мы говорим «со стороны кладбища», но точного свидетельства этому нет: несколько прохожих — чей-то припозднившийся родственник и два квартиранта из церковного доходного дома — были ослеплены резавшими глаза льдинками, отворачивали головы и потому впоследствии не смогли дать верных показаний. Женщина, как им показалось, просто вынырнула из пелены.
По виду — разномастной, как будто от старьевщика, одежке — это была нищенка: возможно, из тех, что собирают милостыню на паперти. Она шла, кутаясь в сильно поношенную и местами рваную шерстяную шаль, по сторонам не смотрела, голова ее была опущена долу, а стало быть и взгляд — устремлен под ноги. Но при этом она — прохожие слышали это отчетливо — говорила сама с собою. То есть, она говорила ни к кому конкретно не обращаясь, но в голос: не таясь и не стараясь укрыть свои мысли от случайных свидетелей.