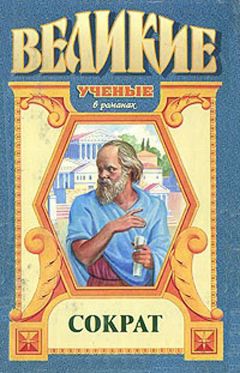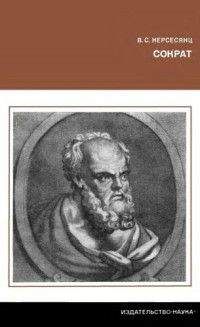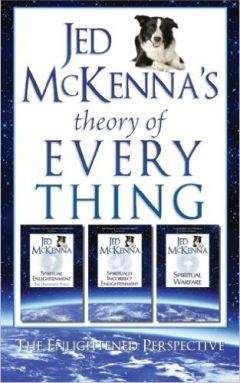Анатолий Карчмит - Рокоссовский. Терновый венец славы
— За все… Следователь называл фамилии, а я подтверждал, что эти люди входили в военно-троцкистскую организацию, шпионили… Рубинова, Веденева… Рокоссовского… На всех, на всех наклепал.
Чайковский вытер полотенцем вспотевшее лицо, лег на кровать, отвернулся к стене и замолчал.
Вскоре в камеру привели едва державшегося на ногах пожилого человека, с профессорской бородкой и взлохмаченными рыжими с проседью волосами. Он сел на койку и, закрыв лицо руками, просидел более часа, затем лег в постель. Целые сутки старика никто не беспокоил, и он потихоньку пришел в себя.
— Судя по вашему разговору, любезные, вы военные? — неожиданно спросил он.
— Да, военные, — ответил Грязнов.
— А вас за что?
— Контрреволюционные элементы, — горько усмехнулся Грязнов.
— Произошла какая-то неувязка, — добавил Шестаков. — А вы кто будете?
— Воронов Михаил Иванович, — ответил старик, поправляя подушку. — Я из Красноярска. В институте занимался законами о наследственности и изменчивости организмов. Теплилась еще недавно такая наука, генетикой называется. — Он хотел сказать еще что-то и не смог: его душил кашель. Наконец он с надрывом в голосе продолжил дальше. — А теперь — враг народа. Терплю побои, издевательства… Но ничего, осталось недолго, может, скоро, дай бог, все эти мучения кончатся.
— Скорее бы, — подал голос Чайковский, который уже несколько дней не вставал с постели. — У меня порок сердца. Просил следователя показать врачам, а он и ухом не повел. До чего мы дожили! Куда только смотрит товарищ Сталин?
— Косьян, ты Сталина не трогай, — сказал Шестаков. — Он здесь ни при чем. Сталин, Советская власть были и будут на стороне народа.
— Вас еще не пытали, любезный? — уточнил ученый.
— Нет, у меня со следователем полное взаимопонимание.
— У меня вначале тоже так было, — сказал Чайковский, присев на постели. — А потом: говори, отвечай, проклятый враг народа! А, подлец, не хочешь говорить? Следователь открывал дверь и кричал: «Оболдуй, развяжи ему язык!» И тот Оболдуй с гирями-кулаками, с тупой, как у настоящего дебила, мордой, развязывал мне язык не один раз. Теперь мне все безразлично, я что угодно подпишу — лишь бы скорее кончилась эта мука.
— Удивляюсь я — до чего же тесен мир у руководителей нашей страны, — сказал Воронов, присев за стол рядом с Шестаковым. — Как незатейливы у них мысли о самом прогрессивном обществе на земле — социализме.
— О чем Вы это говорите? — с возмущением спросил Шестаков. — Это уже не лезет ни в какие ворота.
— Вот видите, товарищ бывший корпусной комиссар, — старик уставился на Шестакова. — Вам до сих пор невдомек, что диктатура, на вершине которой восседает Сталин, рассматривает народ как лес для порубки.
Шестаков жестом руки пытался остановить старика, но тот, присев рядом с Чайковским, продолжал:
— Выслушайте меня, пожалуйста, и не перебивайте. Вполне возможно, что эти мысли я высказываю в первый и последний раз. Имейте мужество их выслушать.
— Я категорически не разделяю ваших взглядов! — воскликнул Шестаков.
— Пожалуйста, это ваше право. — Воронов покраснел, руки его дрожали, взлохмаченные волосы придавали ему вид непримиримого спорщика. — Разве вы не видите, любезные мои, что народ трепещет от страха, который парализует его волю и терзает душу? — Он покосился на молчавших сокамерников и продолжил. — Страна не может терпеть диктатуру одного человека, не презирая его и не питая к нему ненависти. Эта ненависть, на первый взгляд, смирных и послушных, как овцы, граждан бурлит и клокочет в их душах. Ведь только туда защитники вождя заглянуть не могут.
— Народ Сталина поддерживает! — бросил Шестаков. — Вы говорите неправду!
— Нет, любезный, я говорю правду, — глухо сказал старик, побледнев. — Всеобщий страх днем вынуждает людей поддерживать вождя, неистово аплодировать ему, а ночами эти же самые люди кусают себе локти от возмущения.
Шестаков вспыхнул, вскочил со стула:
— Вот теперь я убедился, что вы самый настоящий враг народа!
Грязнов и Чайковский уставились на старика: что он скажет в ответ на это внезапное обвинение.
— Знаете, любезный, — более спокойно продолжал рассуждать Воронов, — сам по себе напрашивается вопрос: кто же такие враги народа? Ученые, командиры производства, поднимающие экономику страны, так называемые кулаки, которые умели и хотели работать на своей родной земле. Может, военные, такие, как вы, отдающие свои знания, силу и энергию на повышение боевой мощи Красной Армии? — Старик тяжело поднялся, включил в камере свет и встал посередине комнаты. — Разве этим люди враги народа? А может, враги народа те, по чьей воле страдает народ? Кто по туполобому самодурству единолично правит страной и уничтожает генетический фонд нации?..
— Хватит! Сейчас же прекратите! Иначе я вызову охрану! — прикрикнул на старика Шестаков. — Где же выросло такое пакостное зелье?
— На воле, любезный, на воле, на сибирской земле.
— Вы губите свою душу! — зло произнес Шестаков.
— А вы предавайте своих друзей, — ответил старик. Он повернулся и поднял глаза к тюремному окошку. На его седой бородке дрожали капельки слез.
Чуть меньше чем через месяц в полный голос «заговорили» Грязнов и Шестаков. В их письменных показаниях фигурировало больше «заговорщиков» против Советской власти, чем в «признаниях» Чайковского. Среди них важное место занимал их бывший сослуживец Рокоссовский.
Всех, кто сидел в камере читинского острога, постигла одна и та же участь — они были расстреляны.
Глава тринадцатая
При въезде в Ленинград Рокоссовский смотрел в решетчатое окно «воронка» и не мог отвернуться — не было сил. Лучи солнца скользили по траве, мелькали одетые в зелень деревья, телеграфные столбы, машины, прохожие. Но через два часа уже было темно и холодно — он сидел в одиночной камере в известной своими порядками старинной тюрьме «Кресты» — символе самодержавной власти русских царей.
Сколько людей перебывало в этом централе? Одни были искателями лучшей жизни; другие совершали уголовные преступления; третьи — покушались на устои власти. И вот теперь невеселая доля привела сюда тех, кто, казалось бы, боролся за лучшую жизнь, равенство, братство.
Каменная ограда тюрьмы была высокой и суровой. Ни один звук не проникал через стены ее казематов. Серая, убогая жизнь человека, попавшего сюда на годы, делала его похожим на цветок, выросший без солнечного света.
Камера была маленькой. Одна железная кровать, табуретка, привинченная к полу, тумбочка и столик. Небольшое квадратное отверстие в стене, у самого потолка, было устроено так, что пропускало лишь бледный клочок света, который назойливо дразнил воображение Рокоссовского: на воле поют птицы, земля радуется солнцу, по синему небу плывут облака, цветет сирень, распускаются розы, но все это для других, а не для меня.
В течение недели его не вызывали на допрос, не обращали на него никакого внимания, будто напрочь забыли, зачем его сюда привезли. Прогулки внутри тюрьмы разрешали ему такие короткие, что он не успевал ощутить прелести свежего воздуха.
Рокоссовский старался не думать о предстоящих допросах, — он не сомневался, что они когда-нибудь начнутся, — а старался предаваться воспоминаниям. Сегодня вечером, после мутной похлебки с кусочком черствого хлеба, он улегся на кровать и, положив руки под голову, думал о земле, где прошло детство, — где он вырос и возмужал.
В тюремной тиши краски далекого прошлого были очень живыми и яркими, словно картины талантливого художника-пейзажиста, когда на них смотришь издалека. Он вспомнил учебу в варшавской школе. С первым и третьим классом занимался один учитель. Он до сих пор помнит его имя — Эрвин Мельник. Это был добрый и умный педагог, владеющий тремя языками — польским, немецким и русским. А как он играл на скрипке произведения Шопена и Огинского! Заслушивались его исполнением родители и вся школа.
В часы самостоятельной работы в первом классе учитель привлекал лучших учеников третьего класса для оказания помощи малышам. Он и теперь видел себя возле кудрявой белокурой девочки Зоей. Он все время помогал ей больше, чем другим ученикам. И в каникулы они часто гуляли вместе, ловили рыбу и купались в затонах летней Вислы.
Но летело время. Он оказался в городишке Груец, она осталась в Варшаве. Время от времени они обменивались детскими посланиями. И когда ему пошел восемнадцатый год, она приехала на лето в Груец к родственникам. Ему особенно запомнился тот день, когда они встретились впервые, уже будучи почти взрослыми. Вот они поднялись со скамейки в саду, идут в лунную ночь по безлюдной улице, внезапно останавливаются, говорят о чем-то несерьезном, но своем, личном, потом сидят под раскидистым кленом.