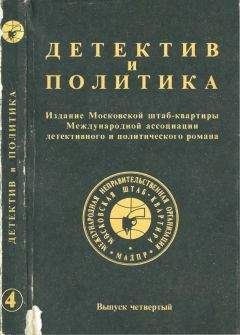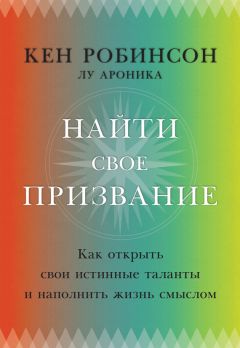Иван Новиков - Пушкин в Михайловском
Пушкин не верил ушам. Самая обыкновенная человеческая злость — на трусость, на глупость, на клевету — с огромною силой охватила его. Он забыл и про Ольгу и со всей полнотою экспрессии, хоть и негромко, вдруг произнес за окно «русский титул». Это бывало с ним редко, но это всегда освежало. Однако же Ольга как будто не поняла пли не вовсе расслышала, потому что невинно она переспросила:
— Что ты сказал?
— Ты разве здесь? — обернулся к ней брат. — Да, я просил… Будь так добра, принеси мне стакан воды.
Когда сестра вышла, он дал себе волю, и его хорошо расслышал индюк под окном, немедленно давший свой отзыв. Так на некоторое время и оставался он единственным собеседником Пушкина, пока не возвратилась Ольга Сергеевна со стаканом воды.
Глава восьмая В Тригорском
«Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Неважные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям. Решился для его спокойствия и своего собственного просить его императорское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства Вашего превосх…»
Так Пушкин писал в тот самый день Адеркасу, псковскому губернатору, перебравшись совсем к Прасковье Александровне Осиповой, пока не уедут родители или каким-либо иным способом не разрешится дальнейшая его судьба. Он был поставлен в необходимость куда-то деваться, и Прасковья Александровна с радостью предоставила ему убежище у себя.
По дороге в Тригорское Пушкин обдумал свое положение и ясно представил себе полную его безвыходность. То, что отец при людях кричал тяжкие свои обвинения, грозило лишением чести, суровою карой. Тогда и решился он на этот отчаянный шаг. Но у него выбора не было.
Прасковью Александровну он попросил отправить эту бумагу во Псков. Она энергично пыталась его образумить. Но Пушкин не слушал советов. Он и на нее рассердился.
— Чего же хотите вы? Чтоб меня арестовали и посадили в тюрьму? Если вам жаль лошадей, я найму у мужиков телегу или сам отправлюсь пешком!
Он был в большом возбуждении и, когда писал Адеркасу, порою вставал, мочил полотенце и прикладывал к горячему лбу. Но тут, в разговоре с Прасковьей Александровной, он все же опомнился и, наклонившись к руке ее, просил извинения.
— Как мог я сказать эту глупость про лошадей, что вам, может быть, жаль… Прогоните меня.
В ответ и она целовала его в горячий висок, вдыхая его особенный запах волос. Казалось бы: мир, но через минуту Пушкин снова шумел и требовал послать верхового без замедления.
И верховой был отправлен. Пушкин сам передал ему пакет для губернатора. Осипова же строптивого гостя своего больше не уговаривала: верховой получил точный и строгий ее наказ. И этот наказ был таков: в дороге не торопиться; во Пскове с бумагой ни к кому не являться: пробыть там три дня и вернуться назад, объяснив, что запоздал из-за распутицы и что губернатора не было в городе, а чиновникам важной бумаги не решился доверить: и, наконец, таить это все как строжайшую тайну. Так хотела она выиграть время.
По ее же совету Пушкин немного спустя написал и Жуковскому. Письмо это вышло также взволнованным.
Рассказав происшедшую сцену и передав все отцовские выкрики, Пушкин спрашивал старшего друга: «Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра, — еще раз спаси меня».
Пушкину снова пригрезились ужасы юности, как собирались его высылать в Сибирь или на Соловки. Тогда его спас, через Карамзина, Чаадаев, — теперь прибегал он к Жуковскому, которому вовсе недавно писал, полностью тогда еще не открываясь; однако ж и в том письме он уже слал поклоны Карамзиным, точно предчувствуя, что скоро опять бури зашумят над головой…
И, уже кончив письмо, приписал: «Поспеши: обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться — дойдет до правительства, посуди, что будет. Доказывать по суду клевету отца для меня ужасно, а на меня и суда нет. Я вне закона». И уже совсем под конец признавался, что написал и губернатору.
Прасковья Александровна утратила в эти дни сладкий свой деревенский сон. На все лады прикидывала она создавшееся положение и искала из него выхода. Это было много трудней, чем любое, хотя бы и самое сложное, хозяйственное дело. В одном она не раскаивалась: что затормозила письмо. Посоветовав Пушкину обратиться к Жуковскому, она и сама написала ему, хоть и не была с ним знакома.
В этом письме говорила она о Пушкине как о человеке, который «действует прежде, а обдумывает после», а о просьбе его к Адеркасу — что она «все то сделала, что могла, чтобы предупредить следствие оной». «…Помогите ему там, где вы; а я, пользуясь несколько его дружбою и доверенностью, постараюсь если не угасить вулкан, то по крайней мере направить путь лавы безвредно для него…»
В планы свои относительно письма Пушкина к губернатору она посвятила и Льва, который наконец уезжал, получив назначение, в Петербург. Да и сам Александр велел ему побывать непременно и у Жуковского. На проводы брата домой он не собирался. Они порешили, что Лев по пути заедет в Тригорское.
Наступили дни ожидания, но Пушкин не переставал работать. Лев увозил для печати первую главу «Онегина», и Пушкин приводил в порядок свои примечания. Под впечатлением посещения Петра Абрамовича он написал теперь и о прадеде, помянув и Лагань, плывущую следом за братом.
В эти тревожные дни размышлял он по-прежнему и о побеге, даже, может быть, больше, чем когда-либо: это одним ударом разрубало весь узел. Но странное дело: ко всем этим мыслям, ставшим уже привычными и почти постоянными, примешивалось теперь и некоторое раздумье.
Так брату писал на прощанье:
Презрев и голос укоризны,
И зовы сладостных надежд,
Иду в чужбине прах отчизны
С дорожных отряхнуть одежд.
. . . . .
Благослови побег поэта.
И тут же внезапно усталой рукой чертил о себе:
Умолкнет он под небом дальним
Один. . печальным
Угаснет в чуждой стороне.
Тут было, конечно, и личное: отрезать себя от всяких возможностей когда-нибудь встретиться… Страстная жажда увидеть Элиз порой бушевала в нем с такою же силой, как порывистый ветер в лесу, когда возвращался от Ганнибала. Ссылка и ссора с отцом, потрясение дружбы, разлука с любимой женщиной — все это рождало порою мгновенную мысль даже о самоубийстве. Так было с ним всего еще раз — в Петербурге, когда граф Федор Иванович Толстой-Американец распустил про него слух, что его пригласили в Тайную канцелярию и там высекли. Он и теперь вспоминает об этом, готовясь к дуэли с клеветником. Но если б тогда он это сделал, он только подтвердил бы тем самым позорившую его молву. Не было ли бы отчасти то же самое и теперь?..
Но было, кроме того, и нечто другое, что не позволяло ему так собою распорядиться. Это, может быть, было б легко там, в Петербурге, когда личная жизнь его шумела и пенилась в узком бокале; там разбивали не раз на попойках такие бокалы, внимая печально-веселому звону стекла… Теперь же и самая жизнь крепко держала его, он связан был с нею тысячью нитей и прежде всего своею работой. Так же казалось порою легко и на юге — шагнуть и отплыть из неласковой отчизны своей. Но и тогда уже он, в стихах своих «К морю», крепко задумывался: что же найдет он за рубежом? Он всегда страстно хотел путешествовать с другом своим Чаадаевым, к которому чувствовал настоящее уважение, как ни к кому, быть может, другому, и теперь только так и мыслил себе запретное это путешествие: поехать прямо к нему… Но одно дело путешествовать и другое — проститься с отчизной навек. Что мог он там делать? Он увез бы с собой единственно пафос борьбы, скованной здесь; но и там — не звучал ли бы он в пустоте?
Он отнюдь не хотел себя ограничивать. Эта стихия борьбы, и борьбы политической именно, также просила свободы для своего проявления, но ведь единственный меч его — слово, стихи! И он размышлял: можно ли было вовсе ему покинуть отечество, оторваться от своего родного и милого, — не вырвешь ли вместе с тем с корнем и собственную — именно творческую жизнь? И самая эта отчизна, быть может, к нему обернувшаяся и еще посуровей, чем раньше, не отпускает и дышит одновременно и каким-то теплым дыханием. И разрешение ли это вопроса: покинуть ее, когда вот и этот простор, и предвкушаемая рабочая тишина зовут его к творчеству, сосредоточенному и большому?
И как еще надо во всем разобраться? А разобраться для Пушкина значило: мыслить в процессе работы, и мыслить именно образами.