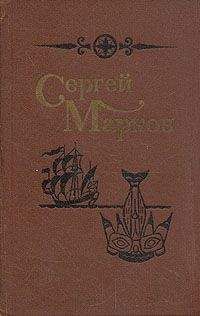Николай Задонский - Жизнь Муравьева
– Где же тут хоть капля справедливости, почтенный Николай Николаевич? Выслали из столицы, как преступника, даже обычного при переходе из гвардии в армию повышения в чине меня лишили! Почему я один государем столь жестоко взыскан? Потому что знатных покровителей не имею, с дворцовыми блюдолизами не вяжусь и правду в глаза начальству привык резать. Нет, клянусь честью, без мщения я расправы над собой не оставлю.
Якубовича определили в Нижегородский драгунский полк, расквартированный в Караагаче, куда он вскоре и уехал.
И вдруг через несколько дней после отъезда Ермолова на Сунжу Якубович является в Тифлис к Муравьеву, объявляет:
– Сюда приезжает на днях Грибоедов, назначенный секретарем русской дипломатической миссии в Персии. Я должен кончить с ним наше дело и прошу вас, Николай Николаевич, оказать мне помощь.
– Вы решаете с Грибоедовым стреляться?
– Честь офицера и дворянина к сему меня обязывает.
– Понимаю вас, любезный Александр Иванович, и все же должен сказать, что мой взгляд на дуэли, очевидно, не совпадает с вашим, – сказал Муравьев. – Я полагаю, что обычай сей остался от варварских времен, и более желал бы мирного исхода вашего дела.
– Это невозможно, почтеннейший Николай Николаевич! Между нами загубленная жизнь! – воскликнул Якубович. – Я прошу вас все же быть моим секундантом или хотя бы находиться близ места поединка, дабы оказать помощь в случае ранения… Мне не на кого положиться, кроме вас!
В конце концов Якубович уговорил Муравьева и спустя несколько дней пришел к нему с Грибоедовым и его секундантом. Грибоедов был хорошего роста, брюнет, с выразительным сухощавым лицом, живым румянцем на щеках и слегка прищуренными близорукими глазами. Он свободно говорил по-английски и по-французски, во всем показывал себя человеком незаурядного ума и образования. Секундантом его был сослуживец по дипломатической миссии маленький и юркий Андрей Карлович Амбургер.
Грибоедов вежливо и спокойно подтвердил, что вызов Якубовича им принят, и просил секундантов условиться о том, как осуществить поединок.
Амбургер сказал:
– Мне думается, господа, что первый долг секундантов состоит в том, чтоб стараться достигнуть примирения. Подумайте, господа, так ли уж велики ваши взаимные неудовольствия и обиды, чтоб нельзя было кончить дело без поединка?
Муравьев поддержал предложение. Грибоедов обратился к Якубовичу:
– Я, кажется, ничем не обижал вас, Александр Иванович…
Якубович кивнул головой:
– Я никогда и не утверждал этого, Александр Сергеевич…
– Так почему же вы не хотите оставить сего дела? – спросил Грибоедов.
– Я обещал Шереметеву при смерти, что отомщу за него на Завадовском и на вас, – пояснил Якубович. – Я уважаю вас, как благородного человека, но не менее того должен сдержать свое слово.
– Если так, воля ваша, – пожав плечами, произнес Грибоедов, – мне ничего не остается, пусть господа секунданты решают дело.
Дуэль состоялась на следующий день, 23 октября 1818 года, за городом, в овраге, находившемся при дороге в Кахетию, недалеко от селения Куки.
День выдался серенький. Горы были заняты облаками, порой начинало дождить, в овраге остро пахло опавшей сырой листвой. Грибоедов и Якубович держались с изумительным самообладанием. Сняли сюртуки, молча заняли назначенные секундантами места. Якубович, подойдя к барьеру, выстрелил первым. Пуля попала Грибоедову в кисть левой руки, повредила палец. Он прикусил губы, чтобы сдержать стон, затем слегка приподнял окровавленную руку, показал ее секундантам и медленно, но твердо навел пистолет на Якубовича, тот, ожидая выстрела, стоял со скрещенными на груди руками. Грибоедов имел право подвинуться к барьеру, но, приметив, что Якубович не желал его убивать, не воспользовался своим правом и выстрелил с места, не целясь. Пуля пролетела над головой Якубовича, не задев его.
Секунданты подбежали к Грибоедову. Он стоял смертельно бледный с капельками холодного пота на лбу, но не стонал и не показывал виду, что страдает.
– O, sort injuste!{10} – тихо произнес он, пытаясь улыбнуться.
Доктор Миллер, приглашенный Муравьевым и невдалеке ожидавший исхода дуэли, перевязал рану. Грибоедова посадили в бричку, и все отправились в город. «Тот день Грибоедов провел у меня, – спустя три дня записал в дневник Муравьев, – рана его была неопасна, Миллер сказал, что он в короткое время оправится. Дабы скрыть поединок, мы условились сказать, что были на охоте, Грибоедов свалился с лошади, которая наступила ему на руку. Якубович теперь бывает вместе с Грибоедовым и по обращению их друг с другом никто бы не подумал, что они стрелялись. Я думаю, что еще никогда не было подобного поединка: совершенное хладнокровие у всех, ни одного неприятного слова между Якубовичем и Грибоедовым; напротив того, до самой той минуты, как стать к барьеру, они мирно разговаривали между собой и после того, как секунданты их побежали за доктором, Грибоедов лежал на руках у Якубовича».
Скрыть поединка все же не удалось. Слухи расползались всюду и дошли до Ермолова, Зная, что Александр Петрович без того сердит на него, Муравьев не ожидал для себя ничего хорошего.
А тут, как на грех, ко всем напастям прибавилось еще одно неприятное происшествие… В своей квартире неожиданно, в припадке умственного расстройства, покончил жизнь самоубийством начальник квартирмейстерской части корпуса полковник Иванов, которому Муравьев по основной должности был непосредственно подчинен. Начальник штаба генерал Вельяминов, узнав о самоубийстве полковника, приказал Муравьеву заняться разбором бумаг покойного. Иванов отличался мрачным, подозрительным нравом, был готов на любую подлость. Ермолов недаром называл его ядовитой гадиной. Разбирая бумаги, Николай Николаевич обнаружил копию отправленного Ивановым в главный штаб доноса на него, Муравьева, Воейкова и Бабарыкина. В доносе говорилось о политической неблагонадежности молодых офицеров и о покровительстве им со стороны Ермолова, причем доносчик указывал, что Муравьев с товарищами, живя артелью, устраивали у себя подозрительные сборища. И хотя артель прекратила свое существование, после того как Лачинов, Машков и Щербинин уехали весной с Кавказа, все же донос был чреват самыми дурными последствиями. И не только для него, но и для Ермолова, и эта мысль была особенно мучительна. Нет, видно, не судьба служить под начальством Алексея Петровича. Черт знает, как неблагоприятно складывались обстоятельства!
… Ермолов возвратился в Тифлис в самом конце года. Поздно вечером к Муравьеву явился новый ермоловский адъютант Иван Дмитриевич Талызин.
– Его высокопревосходительство просит вас незамедлительно к нему пожаловать…
«На расправу», – мысленно дополнил приглашение Муравьев и, захватив с собой написанное на всякий случай прошение об увольнении, отправился к Ермолову, готовый к самым горьким упрекам и жестокому разговору. Но все получилось не так, как ожидал. Алексей Петрович встретил дружелюбно, никаких упреков делать не собирался и лишь слегка пожурил за участие в дуэли. А вызывал, оказывается, затем, чтоб объявить, как идет подготовка экспедиции в Туркмению и Хиву. Елизаветпольский окружной начальник майор Пономарев, которому Ермолов поручил удостовериться, возможно ли осуществить эту экспедицию, сообщил благоприятные сведения. Не раз бывавший на восточном берегу Каспийского моря, он имел среди кочевых туркмен много приятелей и заручился их согласием доставить посланных под видом торговцев в Хиву и привести их обратно в своих караванах. Военный корвет «Казань» и шкоут «Святой Поликарп», назначенные Ермоловым для доставки экспедиции к восточным берегам Каспийского моря, по его распоряжению ремонтировались в Астрахани, откуда должны были прийти в Баку, где собиралась экспедиция. Сопровождать Муравьева в Хиву взялся бывавший там армянин Муратов.
– В скором времени армянин сей сюда прибудет, – добавил Ермолов, – тебе надлежит вместе с ним сочинить ведомость на приличные подарки для хана и, не откладывая дела в долгий ящик, готовить для себя необходимые вещи и татарскую одежду, в коей удобнее всего за торговца себя выдавать. Придется тебе, любезный Николай, – шутя заключил Ермолов, – именоваться Мурад-беком, в магометанство переходить и гарем заводить!
Алексей Петрович находился в хорошем настроении. Муравьев видел, что его благожелательное отношение к нему не изменилось, и радовался этому и тем более умалчивать о доносе полковника Иванова в главный штаб считал невозможным. Может быть, Алексею Петровичу удастся принять какие-либо меры, чтоб отвести от себя подозрения в покровительстве неблагонадежным офицерам.
И тут произошло самое неожиданное.
Выслушав Муравьева, Ермолов достал из нижнего ящика стола какую-то бумагу и, протянув ему, сказал: