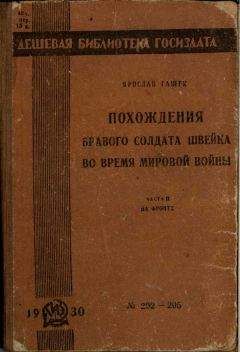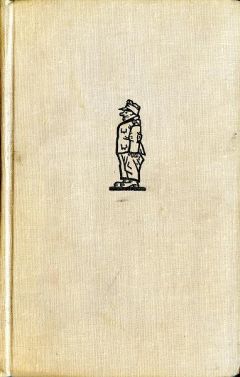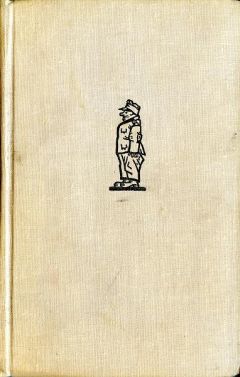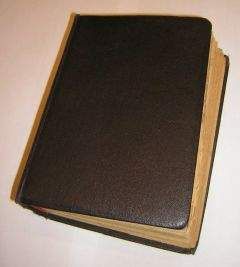Даниил Мордовцев - Сагайдачный. Крымская неволя
А Олексию Поповичу вспомнилось, как и он был тут, в этой Кафе, в неволе, видел и этого старика, который и тогда уже был таким же ветхим и все пел своим разбитым голосом невольницкие и иные казацкие думы, а татары, слушая его и ничего не понимая, клали ему из жалости кто мелкую монету, кто кусок хлеба или дешевую овощь.
— Какой же вам? — долетал до них опять разговор старика с невольниками.
— Да невольницкой же, старче божий.
— Добре, заплачу и невольницкой... И старик, ощупав вокруг себя землю, нащупал свой нехитрый инструмент, слаженный из какого-то деревянного ящика и перетянутый струнами, которые навертывались на вколоченные в один бок ящичка колышки. Он потрогал струны, прислушался к их нестройному дребезжанью, повертел колышки, подстроил свои самодельные гусли и, вскинув к небу свои выколотые, вытекшие и давно закрывшиеся глаза, затянул что-то хриплое, жалкое, болезненное.
Невольники набожно перекрестились, словно бы это началась обедня или печальная лития.
Беззвучное, дребезжащее треньканье, деревянные звуки инструмента, скрипучий и жалкий голос покачивавшегося из стороны в сторону старика казались скучившейся группе несчастных украинцев такою божественною мелодиею, а слова песни, проникавшие каждому в душу и падавшие елеем на изболевшее и истосковавшееся сердце — такою священною, надгробною литаниею, что у многих из них по изможденным лицам текли слезы. Они невольно взглядывали на железо, на ремни, на эту «сірую сирицю», и на потертые кандалами ноги.
Вдруг слепой певец, который все тише и тише перебирал струны своей скрипучей коробки, совсем умолк; коробка свалилась с его колен на мостовую, и он, закрыв лицо руками, заплакал, как плакали и слушавшие его невольники.
— Ничего, детки, потерпите, — сказал, наконец, старик, — может, Сагайдачный и к нам с козаками [Козак - это казак на укр. языке] прибудет...
Сагайдачный невольно вздрогнул, услыхав свое имя. Ему даже показалось, что слепец повернулся в его сторону.
— Да что-то ничего про козаков не слышно на море, — тихо сказал кто-то.
— А не слышно, так услышите, — наставительно отвечал слепец.
— Дай-то, господи!
— Пошли их, пресвята покрова.
— Они придут! — глухо прозвучал чей-то незнакомый голос.
Все вздрогнули, всполошились. Оглядывались кругом, но никого не видали, кроме татар, толкавшихся и горланивших по всей площади.
— Мати божа! Кто это сказал ? — в недоумении поглядывали друг на друга невольники.
— Точно из воды что-то гукнуло...
— А может, с неба...
— С неба, детки, — подтвердил слепец.
— Ой! Ой! Ой! — послышались болезненные крики, и невольники кучею бросились от слепца в сторону.
Это налетели на них турецкие приставники, которые невдалеке сидели в тени чинар и тополей и, попивая из маленьких чашек кофе, курили трубки. Теперь они кончали свой кейф и должны были показывать покупщикам товар лицом. Они погнали бичами свое «стадо» к другой стороне рынка, где их ожидали анатолийские купцы, искавшие рабочей силы для отвоза товаров в Трапезонт.
За невольниками побежал и татарчонок, поивший водою слепца, а слепец посылал вслед своим землякам недослушанный ими невольницкий плач. Его дрожащий голос плакал теперь на всю площадь.
Сагайдачный и Олексий Попович, улучив удобный момент, подошли к слепцу.
— Добрый день, Опанасовичу! — тихо сказал Олексий Попович.
Слепец вздрогнул и с изумлением на лице поднял на пришельца свои выколотые глаза.
— Кто знает тут Опанасовича? — спросил он тревожно.
— Я, Олексий Попович.
Слепец чуть не вскрикнул — не то от радости, не то от испуга: так велико было его изумление.
— Олексіечку! Ріднесенький мій!
Олексий Попович, нагнувшись к слепцу, положил ему в чашку серебряную монету и рылся в набросанных туда медячках, показывая вид, что ищет сдачи.
— Олексиечку, разве ж ты опять в неволе? — тревожно спрашивал слепец.
— Нет, дедушка... Я пришел к тебе с батьком отаманом войсковым, с гетманом Сагайдачным.
— Сагайдачный!.. Мати божа!
— Я тут, Сагайдачный, старче божий, — тихо отозвался предводитель казаков, тоже нагибаясь к нищенской чашечке, — козаки стоят в море... Нам надо добыть ключи от города...
— Чтоб ночью на Кафу мокрым рядном упасть, — пояснил Олексий Попович.
— Господи! — радостно перекрестился слепец.
Но Сагайдачный торопливо спросил:
— Санджакова бранка Хвеся жива еще?
— Живенька-здоровенька, пане гетьмане, дай ей бог счастья, здоровья! — отвечал радостно старик.
— Еще не потурчилась, не побусурманилась?
— Бог милостив, пане гетьмане.
— И ты к ней ходишь, старче?
— Иногда, бывает, хожу, — она добрая, меня, старого, жалует.
— А по Украине убивается?
— Очень, бедная, убивается.
— Так скажи ей, старче, что мы ее вызволим из неволи... Пускай она только от своего пана санджака, паши турецкого, ключи городские добывает, да ночью ворота отпирает, и нас к себе в гости ожидает.
Слушая это, старик весь трепетал от счастья... Сам Сагайдачный тут, Сагайдачный, одно имя которого наводит ужас на татар и турок, — разве же это не божие послание!
— Скажу, скажу Хвесе... пойду сейчас к ней, — бормотал он.
Сагайдачный и Олексий Попович, простившись со стариком, затерялись среди пестрого рынка.
XV
Ночь. Темною пеленою раскинулось над таким же темным морем южное небо, по которому, точно золотом, брызнуто было мириадами звезд. Все кругом окутано мраком, все застыло в сонной тишине — и море, едва-едва плескавшееся у берега, и горы, выступавшие из мрака бесформенными массами, и город, убаюканный этою сонною ночью.
Не спали только казаки. Еще засветло, по возвращении Сагайдачного, Небабы и Олексия Поповича с берега, они занялись приготовлением к решительному делу — осмотрели и привели в порядок оружие, запаслись лишними зарядами, трутом и натертою порохом паклею, распределили между собою предстоящую им работу — працю и, вместе с спустившеюся на землю ночью, тихо, в стройном порядке, двинулись к Кафе.
Казацкая флотилия разделилась на две части: одна, под начальством Небабы и других старших куренных атаманов, осталась на воде — сторожить издали корабли в гавани, другая пристала к берегу несколько левее Кафы, где и укрылась за возвышением. Этою командовал сам Сагайдачный.
В необыкновенной тишине высадились казаки из своих чаек, оставив в них только для охраны по несколько казаков из самых младших, конечно, из «бузимків». Тишина нарушалась только неясным шуршанием мелких прибрежных голышей-валунов, производимым сотнями и тысячами казацких ног, осторожно пробиравшихся в темноте, да и это шуршанье заглушалось тихими прибоями моря, ровные, гекзаметром катившиеся валы которого с плеском разбивались о прибрежные камни.
Как ни осторожно, как ни медленно пробирались казаки, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, однако к полночи они перебрались через южный мысок, в который упирался город правым, так сказать, крылом и который господствовал над Кафою, и увидели под собою темные изломы крепостной стены, мрачные башни и торчавшие из мрака тонкие иглы минаретов. Слышно было, как над городом и над горами пронесся полуночный ветерок, заставив залепетать листья в сонных вершинах тополей и в темной зелени, кое-где разбросанной по полугорью. Явственно донеслось потом до казаков полуночное куроглашение, — кое-где запели петухи в городе, — и Сагайдачному, который шел рядом с Мазепою и Олексием Поповичем, почему-то в этот момент спала на мысль старая-старая песня, которую он слышал еще в детстве: «Ой, рано-рано птицы запели, а еще раньше пан господарь встал — пан господарь встал, лучком забрязчал...»
В этот момент брязнула чья-то сабля...
— Какой там чорт звенит! — послышалось тихое, но грозное предостережение.
Ответа не последовало... Где-то на городской стене зловеще прокричал филин...
— Это прикмета из города, это наши, — прошептал Олексий Попович.
— Смотрите, смотрите, хлопцы!.. Это она, она летит! — послышался сдержанный шепот.
— Кто она? Где?
— Вон — по небу летит... Белая бранка.
— Та, что утопилась в море?
— Она...
Все взглянули на небо. В темно-синей выси, заслоняя собой Млечный Путь и созвездие Лебедя, двигалось по небу, как бы плыло в эфире, белое продолговатое облачко, образовавшееся, может быть, у вершины Чатырдага и теперь плывшее над сонным городом... Многим, действительно, в очертаниях облачка представилось подобие человеческого тела, закутанного в белый покров, и тотчас же вспоминался рассказ о белой бранке, невольнице, утопившейся в море от тоски по Украине и с тех пор пролетавшей над Кафою всякий раз, когда город ожидало какое-либо несчастье [Предание это давно было записано Н. И. Костомаровым, но утратилось в бумагах покойного Погодина, которому сообщено было для напечатания в «Москвитянине». (Прим. авт.)].