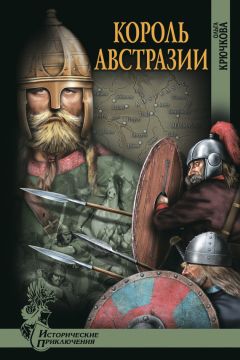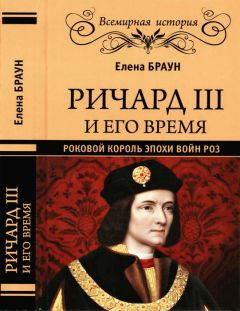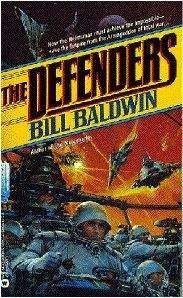Иван Наживин - Кремль
Вскоре прилетел на Русь слух: взбешенный хан Ахмат поднял на Москву огромные силы. У всех точно крылья выросли: авось на этот раз развяжет Господь народ свой окончательно. И тотчас же прилетела и другая весть: дружок великого государя, хан крымский Менгли-Гирей, в бешеном топоте своих конников, в лязге кривых сабель, в огне и дыму пожаров буйной лавиной вторгся в пределы Литвы, и союзник Золотой Орды, Казимир, был вторжением этим скован по рукам и по ногам. Мало того, ногаи, враги Золотой Орды, кочевавшие в предгорьях Кавказа, бросились на улусы Ахмата с юга, а с севера, Волгой, туда же поспешал другой враг Ахмата, брат Менгли-Гирея и союзник Москвы, казанский хан Нордулат, к полкам которого присоединился и воевода звенигородский Ноздреватый со своей ратью…
Москва горячо шумела приготовлениями бранными. Мелкие князья со всех сторон спешили к ней со своими полками. Вся рознь затихла, и на кровавый пир вся северная Русь готовилась, как на светлый праздник. И никогда не было так остро обидно, что юго-западная Русь в чужих руках. Но у всех крепла надежда: будет вместе и она!
Настал и торжественный день выступления в поход на Оку, или, как тогда говорили, «на берег». Ко всеобщему изумлению, Иван Молодой не только не стонал и не охал, но, наоборот, показал большую расторопность.
– Я говорил, что он личину носит… – сказал князь Семен. – Он хитростью-то, может, и саму Софью за пояс заткнет. У него какая-то своя думка есть… Азият!
Во главе рати, которая пошла на Серпухов, стал Иван Молодой. Другие полки, которые должны были занять все переправы через Оку вплоть до Угры, повели именитые бояре. А 23 июля, оставив «ведать Москву» князей М.А. Можайского и Ивана Юрьевича Патрикеева, во главе блестящей свиты направился к Коломне и сам великий государь…
С ним ехал и князь Патрикеев-младший. И когда проезжали все мимо хором Данилы Холмского, к Фроловским воротам, князь Василий поднял глаза на высокий терем и вдруг вздрогнул: из окна светлицы, сжав не то в испуге, не то в восторге белые руки на груди, смотрела на него Стеша… Его ослепило и потрясло восторженное выражение милого лица, и голубые глаза в одно мгновение сказали ему такую правду, от которой испуганно и блаженно закружилась голова…
XVIII. Иоанн III
Затаив дыхание, Москва, а с нею и вся Русь каждый день ждали с берегов Оки известий о победе: других известий быть не могло. Кроме того, о поражении нельзя было думать и потому, что слишком страшна была эта мысль. Но если не думали о такой возможности москвитяне, то думал Иван. Объезжая со своими воеводами русские полки вдоль берега Оки, он смотрел на стан татарский, занявший другой берег, и взвешивал его силы. Ставка в игре была огромна. В случае беды Русь могла потерять все, чего она достигла за последние годы, и превратиться в простой да еще и разоренный улус хана Ахмата. Умный Иван видел слишком много, слишком далеко, слишком сложно и потому колебался: наверное, знают, что делать, только очень ограниченные люди. Хотя в полках своих он явно чувствовал нетерпение ударить на врага, ясно слышал ропот воевод и даже отцов духовных, призывавших его скорее «постоять за дом Пресвятыя Богородицы», он медлил, откладывал, выжидал: то, что татары не решаются нападать на него, было для него весьма знаменательно… Но страшила необъятность татарского стана.
И неотступно гудели ему в уши трутни придворные, «богатые сребролюбцы, брюхатые предатели», как называет их летопись, которые твердили ему одно: «Не становись на бой, великий государь, лучше беги…» Они, конечно, не отстали бы.
– Тц!.. – цокнул языком дружок его Даньяр с неудовольствием. – Шибка многа думашь… Надо сабля тащил и айда… Вели мне с моим конником плавь речку ходить. Я ударил первый, а вы спешил за мной. А?
– Погоди, погоди, Даньяр… – успокаивал его Иван. – Всему свое время.
Каракучуй только презрительно сопел: он не любил думать ни много, ни мало, а любил налететь, опрокинуть, погнать, завладеть…
И вдруг Москва, к великому ужасу своему, увидала Ивана с его боярами в своих стенах!.. Народ – он уже перебирался в Кремль, за стены – прямо взорвало. Нисколько не стесняясь, смельчаки кричали Ивану со всех сторон:
– Когда, государь, ты княжишь над нами в мирное время, много нас в безлепице продаешь [22] , а сам теперь, разгневавши хана, выдаешь нас его татарам…
Иван молчал… Прежде всего он отправил свою Софью с детьми и свою казну государеву в Белозерск. Народ нахмурился, как грозовая туча. И не только в Москве, но и по всему пути Софьи народ шумел: вооруженная свита ее, «кровопийцы христианские», разоряла попутные места пуще татар. Старица Марфа, мать великого государя – она была дочерью князя Владимира Андреевича Серпуховского, героя Куликова поля, – осталась с народом в Москве. Ее превозносили до небес.
– Сразу русскую-то кровушку видно! – кричали москвитяне. – Та, римлянка-то, чуть гарью запахло, бежать, а матушка с нами вот пострадать хочет. Ишь, грецкое отродье: знать, своя-то шкура ближе!
Как громом поразило москвичей новое повеление Ивана: сжечь все московские посады. Было ясно, что великий государь татар боится и готовится к их нашествию на Москву. Посады запылали, но запылали и сердца москвитян: тяжко было от недавних надежд сразу перейти к такому позору…
– А-а, себя да своих ребят спасает, а нас врагам выдает!.. – кричал народ повсюду. – Так нечего было и гневить хана…
Душа Ивана замутилась, словно дымы московского пожара заволокли ее. Настроение Руси звало его на страшный подвиг, но воспоминание о том, что пережил народ за эти два века, тяготило его, как кошмар. Он звал и бояр, и высшее духовенство на совет, но ему в ответ смело кричали:
– Не о чем теперь совещаться!.. Биться надо…
Старенький епископ ростовский Вассиан, по прозванию Рыло, лютовал пуще всех.
– Ты не великий князь, ты – бегун!.. – весь трясясь, кричал старик. – Чего ты боишься? Смерти?.. Так разве ты бессмертен?.. Я дряхл, но дай мне полки твои, я пойду против поганых и паду, но не отвращу лица своего от супостатов… Стань крепко на брань противу окаянному оному мысленному волку поганому и бесермену Ахмату… Вся кровь, которую прольют тут, в Москве, татары, на твою голову падет, ты дашь в ней ответ Богу.
Вызванный на совет из стана на Оке, князь Данила Холмский прислал с своим сыном Андреем ответ:
– Волей от войска не иду…
Москва так вся и затрепетала от гордого отпора славного воеводы малодушному владыке. Но еще более запылала она, когда отозвался Иван Молодой с Оки:
– Лучше умру здесь, а отсюда не пойду!
– Ай да Молодой! – зло кричали москвичи. – А говорили: телепень, ни с чем пирог. Да он орел! Вот кого бы теперь на челе-то Руси иметь.
Иван в полном одиночестве, сгорая на костре своих страшных дум, молчал. Старица Марфа всячески настаивала, чтобы он хоть теперь примирился с братьями, которых он не пускал на глаза с самого разорения новгородского. Иван простил их, и они сейчас же подняли голову и зашушукались, не лучшее ли теперь время скинуть тяжкую опеку Москвы?
Было 3 октября. Иван снова поехал на берег Угры, за которой стояли главные силы татарские и которую отцы духовные уже прозвали «поясом Богородицы». У Ивана в голове стояло одно: раз Ахмат, придя с грозой, нападать не решается, значит, силы большой он за собой не чувствует. Это было самое главное.
Ахмат, не смея нападать на московскую рать, двигался со своей ордой на запад, к грани литовской. Надежда на помощь Казимира, однако, совершенно пропала: Менгли-Гирей громил русские окраины Литвы. Наступила уже суровая осень. Татары на походе обносились, часто, благодаря распутице, голодали, болели и не знали, что предпринять. В день приезда Ивана к войску, 8 октября, Ахмат приказал начать битву, стреляя через Угру из луков. Русские ответили пальбой из пищалей, а затем Фиораванти выехал на берег со своими пушками, и грохот их заставил татар отступить…
И вдруг Иван послал к хану послов – просить о мире. Вокруг все затряслось от негодования. Но он молчал: перебежчики с того берега говорили, что положение татар тяжкое. Князь Василий Патрикеев – он участвовал в унизительном посольстве к Ахмату – осторожно заметил Ивану, что полки ропщут. Иван сверкнул своими огневыми глазами.
– Баранье!.. – пробормотал он. – Положить на переправах половину рати всякий дурак может… Надо действовать не кулаком, а умом. Мне нужно татар-то изничтожить, а силу русскую сберечь: она еще понадобится.
Князь Василий посмотрел на великого государя и не сказал ничего: он понял, что есть дело улицы и есть дело, которое можно и должно делать вопреки улице. Он видел, как побелел Иван, когда посольство передало ему дерзкий ответ Ахмата: