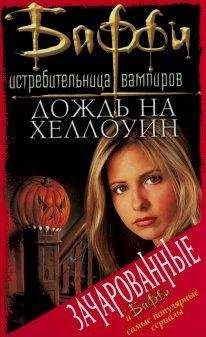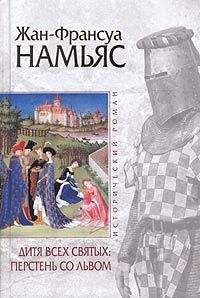Валентин Пикуль - Псы господни
Первые двадцать дней он жил в резиденции, таясь от правосудия за высоким забором, и никто его не беспокоил. Он делил с иезуитами их сытную трапезу, читал светские романы, ему было даже хорошо. Но иногда Куэваса ошеломляли совсем неожиданными вопросами:
— Что главное ты видишь в булавке?
— Острие.
— А что примечательно в алмазе?
— Сияние.
— Думаешь ли ты о смерти?
— Нет. Но она для всех неизбежна…
Куэвас не мог не заметить, что среди иезуитов не было общей молитвы, никто не распевал их литургическим хором. Но когда он счел свое убежище монастырем, его поправили:
— У нас нет монастырей, а обители наших конгрегации — это подобие военных бивуаков: сегодня мы здесь, а завтра в пути, чтобы оказаться там, где угодно генералу ордена. Мы находимся в вечном движении к цели, и у нас нет времени для остановок, чтобы предаваться общей молитве. Каждый из нас творит свою мессу, когда ему заблагорассудится…
Однажды, вспомнив прежнюю жизнь и дружбу с Мигелем, которого он зарезал, Куэвас невольно предался отчаянию, но иезуиты ласково ему объяснили:
— В чем же твой грех? Если человек стал мертв, значит, смерть его была угодна господу Богу, который именно тебя избрал для свершения своей воли…
Куэвас писал: «О, как мне стало легко и сладостно после этих слов утешения, и отныне я уже не терзался совестью, совсем перестав думать о загубленной жизни, которую пересекла рука всевышнего, вложив кинжал в мою руку». Конечно, он не мог знать, что — независимо от его воли — он уже включен в жесткую систему иезуитского воспитания для нужд ордена. В первой ступени проверки он назывался «индефферентос» (выжидающим), а само подворье ордена стало для него «домус пробатионис» (домом испытаний). В состоянии выжидающего Куэвас еще не замечал, что подвержен строгому наблюдению; исподтишка его изучали со всех сторон и, отвечая на вопросы братии, он невольно обнажал свой характер, свои пристрастия и свои вкусы. Никто не торопил его сделать первый шаг. Однажды он сам изъявил желание чем-то помочь братии в их жизни, во многом еще загадочной для него.
Просьбу его приняли благосклонно. Потом дали грязное ведро и открыли перед ним выгребную яму с нечистотами.
— Если ты столь благодарен нам, — было сказано, — так вычерпай все дерьмо. Мы тоже останемся тебе благодарны!
Так впервые в жизни он вкусил унижение грязного труда, но, признаться, не очень-то оскорбился, вдыхая невыносимое зловоние. Когда же отмылся и выветрил из рясы дурной запах, резидент миссии Суарец просил его сопровождать в вечерних прогулках по саду. Это был добрый и веселый старик, говоривший с юмором завзятого эпикурейца:
— Ах, молодость! Я тебя понимаю… Ты начитался глупых книжек, в которых лошади скачут через пропасти, словно лягушки через канавы, а благородные рыцари не успевают нанизывать на свои копья по сотне сарацин сразу, будто все неверные — это жалкие маисовые лепешки. И за все эти подвиги в конце концов прекрасные дамы позволят тебе выпить кувшин воды, в котором они обмыли свои благородные чресла…
Исподволь иезуиты разрушали прежние рыцарские идеалы Куэваса, присущие всем молодым идальго. Когда первый срок испытания миновал, ему было заявлено со всей строгостью, какой он никак не ожидал, и даже — грубо:
— «Общество Иисуса» не может без конца содержать посторонних. Мы спасли тебя от гнева уличной толпы, а теперь можешь убираться отсюда. Ворота открыты.
— Куда же я денусь? — растерялся Куэвас.
— Свет велик. Иди куда хочешь.
Куэвас впал в отчаяние. Иезуиты и сами знали, что при дворе ему нечего делать, а, стоит показаться на улицах Мадрида, его схватит инквизиция, которая ко всем грехам припишет и убийство Мигеля… Куэвас взмолился:
— Я согласен делать все, только не изгоняйте меня. Если можно, сочтите своим собратом… спасите!
Его заперли в темной келье, три дня не давали воды и хлеба. Потом к нему ворвалась толпа братии, и он не узнал в смиренных братьях прежнего благочестия. Они словно озверели! Поставив Куэваса на колени перед распятием, он был осыпан угрозами, порицаниями, оскорблениями:
— Нечестивец, желающий даром познать рай!
— Он же притворщик… гнать его отсюда!
— Откуда он взялся, этот слизняк из винной бочки?
— Оплюем его, братия…
Его оплевали с ног до головы, а почтенный казначей высморкался ему в лицо. Толкаясь в дверях, иезуиты покинули его, продолжая громко возмущаться. Куэвас вышел в сад, похожий на рай, и мраморный дельфин, вздымая фонтан, щедро отпустил для него воду, чтобы он утолил нестерпимую жажду, чтобы обмыл со своего лица плевки. Здесь его застал Суарец, похваливший его смирение.
— Ищи спасение в себе самом, — сказал он. — Но прежде, чем ты примешь решение, ты обязан дать клятву. Если желаешь служить престолу божию, как верный пес хозяину, сразу отрекись ото всех родственных чувств.
— У меня так мало осталось родственников!
— Но о тех, что остались, ты можешь говорить не иначе, как о покойниках. Заодно, — добавил Суарец, — сразу избавься ото всех привязанностей сердца.
— Проклинаю их! — отвечал Куэвас.
— Но тебе предстоит отречься и от своей родины, ибо пес господень не нуждается в будке, а бегает по всему свету, чтобы всюду слышали его лай, стерегущий престол божий.
— Не быть испанцем? — Это ужаснуло Куэваса, считавшего, что «Испания — превыше всего».
Но его патриотизм был жестоко высмеян:
— А зачем быть испанцем, если можно быть немцем в Германии, русским в Московии или поляком в Полонии? Наконец, нас ненавидят в Англии, и потому хорошо быть англичанином… Разве не хочется быть человеком всего мира?
Куэвас не ощутил момента, когда его воля и гордость были парализованы насилием, и для него навсегда останется загадкой, как и когда он стал воспринимать послушание вроде указания свыше, которое всегда останется для него безоговорочным, неподвластным критике и сомнениям. Переведенный во второй разряд «новициатов» (испытуемых), он был честно предупрежден, что новициаты еще сохраняют право отказаться от службы в ордене.
— Подумай, — предупредили его, — ибо третья ступень «схоластика» уже не позволит тебе покинуть наш орден, а если вздумаешь бежать, то с твоих ног свалится обувь… Впрочем третья ступень застанет тебя далеко отсюда.
— Где? — спросил Куэвас.
— Отвыкай спрашивать, — отвечали ему. — Приготовься уподобиться трупу, который орден станет переворачивать с боку на бок и таскать по земле туда, где ты нужен. Но впредь ты научишься ценить в алмазе не сияние, а лишь его бесподобную твердость, какой станешь обладать сам, и ты сделаешься острее булавки, дабы проникать в сокровение душ… Скажи, разве не хочешь повелевать людским стадом?
— Хочу! — бестрепетно согласился Куэвас.
— Так оно уже блеет, радуясь, что ты острижешь глупых баранов, а потом сам и выспишься на их мягкой шерсти… А сейчас возьми у садовника лопату и выкопай яму такой глубины, чтобы вылезти из нее с помощью веревки…
Безропотно повинуясь, я выкопал такую глубокую могилу, из которой, казалось, никогда не выберусь. Но когда меня подняли наверх, я услышал голос Суареца:
— Теперь закопай ее. Видишь, из земли торчит сухой кол? Поливай его водою, пока из кола не вырастет дерево.
— Оно никогда не вырастет, — возразил я.
— Ты прав, — согласился Суарец. — Но это тебя не касается. Твое дело поливать кол, веря в то, что дерево вырастет.
Мне вручили хлыст о пяти концах со следами чужой крови и железную цепь, оснащенную колючими шипами:
— Если тебя навещают сомнения или гложет тоска по тому миру, из которого ты пришел к нам, начинай, сын мой, бичевать свою плоть, пока не возликуешь ты духом…
«Чем хуже, тем лучше», — это выражение я слышал постоянно от братии, и выпадал ли град на посевы, топила ли буря корабли на море, навещала ли города чума, — вывод иезуитов был непреложен и четок: «Чем хуже, тем лучше». Я вымотал себе все руки, таская ведро за ведром, чтобы поливать кол, торчащий из земли, но… произошло чудо!
Ошеломленный, я ворвался в келью отца Суареца:
— Мой кол дал первый отросток зелени.
— А ты не верил, — засмеялся резидент. — Ну, что ж. Теперь я стану разговаривать с тобою, как с равным, ибо вижу, что ты проникся духом святым… Садись рядом.
Старый эпикуриец наполнил вином бокалы, разрезал рокфор, о чудесном благовонии которого с такой похвалой отзывался в древности еще Плиний, как о самой желанной пище римских патрициев. Наши бокалы сдвинулись.
— Весь мир открыт перед нами, — возвестил Суарец, — и ты всегда помни, что сказал Иисус своим апостолам: «Вы пойдете на этот праздник, а я еще не пойду на этот праздник, потому что время мое еще не исполнилось. Но когда братья его пришли, тогда и он пришел на праздник, но не явно, а как бы тайно…» Ты, сын мой, тоже придешь на праздник, но тоже втайне, и никто не узнает тебя, веселящегося…