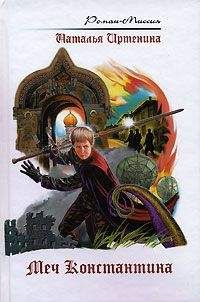Ариадна Борисова - Змеев столб
– А я – пять литов, – засмеялся он. – За предсказание.
– Ой, говорящий попугай, – отвлеклась Мария и схватила Хаима за руку. Прорвавшись сквозь стену жарких спин, они очутились на пятачке свадебного круга. Попугай был занят важным делом: выуживал из ящичка конверт взволнованной юной паре, ожидающей пророчества со смесью восторга и страха. Пышная фата окутывала невесту муслиновым облаком, в петлице нового диагоналевого пиджака жениха зеленела веточка руты. Нарядный кортеж, очевидно, прибыл откуда-то из захолустья, на мужчинах были вышитые рубахи, на женщинах полосатые передники, ноги обуты в деревянные башмаки с цветными лентами на онучах.
Невеста нетерпеливо развернула бумагу и громко зачитала:
– «Не хорошо быть человеку одному»[35].
– Я знаю, откуда это, – просиял жених и обнял девушку. – Значит, не ошибся с женитьбой!
– О-о, доннер-рветтер, как мне все надоело! – с тоской завопил Мудрый Захария.
Хаим напомнил Марии, что пора идти, хозяева, наверное, ждут. Мимо завертелась праздничная карусель – русские самовары, турецкие ковры, польская обувь, холмы венгерских арбузов, сахарно-карминовых в разломе, как помада на губах продавщиц косметики. Хозяев не было ни в повозке, ни около, пустые корзины сиротствовали под кучерским сиденьем.
Хаим по наитию отправился под большой деревянный навес, что-то вроде импровизированного кабака. Резвые мальчишки подавали на общие столы простую крестьянскую еду – нарезанный толстыми ломтями хлеб, миски квашеной капусты, заправленной льняным маслом, желтое сало со снежными налетами соли и вареный картофель в листьях ревеня. Двое молодых людей в чистых фартуках разносили кружки с пивом. Иоганн, сонно покачиваясь, сидел в дальнем углу обособленно от всех и жевал погасшую цигарку. Хаим беспомощно переглянулся с Марией.
Хозяин утопал в пьяных зыбучих песках. Слева и справа от него стояли две внушительные бутыли, обе, без обид, опорожненные наполовину. Командовала парадом пузатая, полная вина кружка. Огрызки литовской чесночной колбасы, соленых огурцов и лососевые кости валялись рядом с пустой тарелкой. Лилово-красный нос хозяина по цвету напоминал синяк хозяйки, которой и здесь не оказалось. Увидев квартирантов, он обрадовался и сделал рукой гостеприимный жест, потом метко зацепил пальцами одну из раздвоившихся, убегающих кружек и опорожнил ее мелкими глотками без передышки.
– Иоганн!
Он поднял на Хаима глаза, обращенные в шаткие заповедные дали.
– Иоганн, вы с Констанцией нас тут не ищите, мы пешком домой вернемся.
Хозяин махнул рукой:
– Я понял… Я понял… Я – понял.
– О счастье, – вздохнула Мария: к навесу быстро приближалась хозяйка.
– Идите, идите пешком, все лучше, чем с нами… Не надо помогать, я привычная, и лошади тоже, – кивнула Констанция скорбно, затыкая пробки на бутылях. – Вот только вино унесите в повозку.
Гул базара понемногу отдалился. Хаим забыл, что хотел погулять по парку и забраться на дюну Бируте. Не сговариваясь, они пересекли пыльную дорогу и вошли в зеленовато-желтую свежесть леса. Путь по лесу был длиннее, зато можно было обогнуть деревню и сразу выйти к кузнице Иоганна.
Глава 22
Ливень
Утомленные зноем сосны дремали, источая дивный запах взгустевшей к холодам смолы. В воздухе летали добычливые сети пауков, торопящихся отъесться на зиму. Из дупла высунулась и без всякого страха глянула на пришельцев белка. Тропа, вся в янтарных солнечных бликах, мягко пружинила и шуршала многолетними слоями хвои.
Марию, кажется, ничуть не утомил суматошный сегодняшний день. Хаим шел за нею, думая, что никогда не привыкнет к ее необыкновенной плавной грации, не устанет любоваться магической женственностью движений, игрой легкого в ходьбе тела. Обманчивую хрупкость фигурки проявляло правдивое солнце, высвечивая крепкие икры, высокие бедра, хорошо сформированные округлости подвижных ягодиц, а когда Мария на секунду поворачивалась в прогале тропы, восхищенная каким-нибудь маленьким лесным чудом, холмики небольшой груди соблазнительно подрагивали под тонкой тканью платья.
Мария вынула из прически шпильки, и Хаим почти физически ощущал свободный полет ее рыжих волос, родственными мазками вливающихся в оранжево-шафранную акварель узких лиственных рощ. Он чувствовал, что неодолимо привязан к этим кудрявым осенним прядям, к этим гибким рукам, покрытым нежным персиковым пушком…
Хаим еще до поездки дал себе слово: он и пальцем не тронет ее, будет сдерживаться до тех пор, пока Мария сама его не пожелает. Он видел, как медленно, трудно, но упрямо просыпающаяся в ней женщина вытесняет остатки позднего детства и простодушной гордыни. Неподвластные рассудку порывы разбуженной, однако не до конца проснувшейся женской природы пугали ее девичье сознание, заставляли недоумевать, сторониться «друга» и снова странно, незнакомо вожделеть страданий, захватывающих душу и кровь.
Эротическая инфантильность Марии, противоречащая вполне созревшей и явной чувственности, удивляя Хаима, подчас ставила его в тупик. Казалось удивительным, что неглупая, образованная девушка была не в состоянии спроецировать на свою жизнь и чувства то, о чем, несомненно, читала в романах.
Хаим догадывался, что Мария лжет сама себе, укоряя его за «обман» с женитьбой. Она не понимала или упорно не хотела понять обязательств замужества и маялась из-за неотвратимости исполнения брачных правил. Она сердилась на себя, на Хаима, на обстоятельства, приведшие его к исполнению желаний, а ее – к отчаянным метаниям.
Он был уверен: несмотря ни на что, Мария чувствует их обоюдную избранность. Она любит его, не зная об этом, что сразу заметила внимательная фрау Клейнерц. Мария любила его задолго до встречи, любит и будет любить всегда, так же, как он, в этой жизни и после, в бесконечности.
Хаим не сомневался, что заключительный аккорд в прелюдии к окончательному пробуждению прозвучит скоро, со дня на день, и ждал так терпеливо, как только позволяло ему мужеское терпение. Иногда он со стыдом вспоминал трех женщин, промчавшихся по его студенческой юности пустяковым ветром, изводясь в плотской жажде рядом с бесхитростно непокорной Марией, он клял память и физиологию.
…Но все равно вспоминалось. С теми подружками он ни разу не завершил мужское действие одновременно с удовлетворением их пыла. Одна слишком торопилась, вторая, напротив, всячески старалась сдержать его и себя, затормозить его в себе, отчего изматывались оба. Третья… В общем, там не было любви, не было того совершенного единения, которого он сейчас ждал. Он почему-то был убежден, что если этого сразу не произойдет между ним и Марией, то только из-за страха перед кровавой жертвой, которую целомудрие приносит страсти во имя цельности любви. Хаим сознавал и свой инстинктивный страх от неминуемости жертвоприношения и при этом чувствовал то же, что чувствует человек, сходящий с ума в пустыне возле наглухо запечатанного кувшина чистейшей воды…
Грань следовало перейти так бережно, чтобы Мария поняла: настоящей любви между мужчиной и женщиной без страсти не существует. Только тогда, когда дух и тело идут рука об руку в абсолютном равенстве мыслей и влечения, эту царственную гармонию можно назвать любовью.
Хаим догадывался, что женщина, – начиная от первой месячной крови и до золотых лет супружества, – рождается заново столько раз, сколько даст ей Всевышний обновляться молоком жизни в порогах любви и рождения детей…
Вопросом, чей это бог – Марии или его – Хаим не задавался.
Переменчивое балтийское солнце внезапно скрылось за тучей, повеяло прохладой. Туча угрюмо надвинулась с запада, и песчаные почвы пригретых взгорков втянули в себя первые редкие капли. Скоро дождь зашумел, возмущенный нерадушием сухих дюн, капли удлинились и умножились.
– Бежим! – крикнул Хаим, и они помчались в потоках небесной воды, на удивление теплой, точно солнце успело отдать туче весь дневной жар.
Через минуту дождь перешел в ливень, тоже не холодный, но свирепый, бьющий безжалостно и больно. Вдали грохотнул совсем не осенний гром!
Это была гроза, остатняя угроза природе, чтобы крепче запомнила жгучие поцелуи лета, не впала в зимнее забвение и в пору снежных грез готовилась к родам новой весны.
Хаим содрал прилипшую к телу рубашку, накрыл ею Марию. Тщетно: она чувствовала себя, словно под водопадом. Оба они ничего вокруг не видели. Да что там – не видели, они не могли открыть исхлестанных ливнем глаз! Ослепшие, оглохшие, прижались друг к другу спинами, в смятении переплетя пальцы и ни о чем не думая.
Но вот молнии и громовые раскаты поутихли, и дождь резко прекратился. В короткой передышке, – а это стало ясно по сумрачным коловращениям в небе, – Хаим приметил, что они стоят у небольшой ямы, где, вероятно, зачем-то брали землю. Одна из сосен, чьи подрытые корни не выдержали, рухнула, выдернув огромный пласт земли. Под выворотнем в косой стене ямы виднелось отверстие пещерки с навесом из дерна, укрепленного мелким кустарником. Держась за руки, они, как по мостику, пробежали по стволу павшей сосны.


![Алина Борисова - По ту сторону Бездны[СИ]](/uploads/posts/books/1064/1064.jpg)