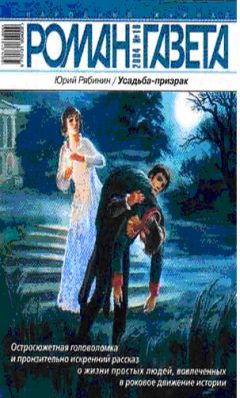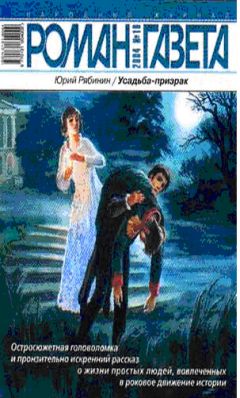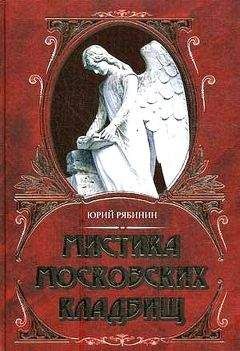Полина Москвитина - Черный тополь
– Пошли отсюда! А ну, назад!.. – кричал Мамонт Головня, размахивая рукояткой бича. Бандитов было двое. Мургашка и охотник Крушинин. Их поместили в сельсовете, в жарко натопленной комнате с буфетной стойкой. Приставили стражу и дали отдохнуть до утра.
Косясь на мужиков, Мургашка лежал на полу маленький, желтый, как лимон, выкуривая одну трубку за другой. Одет он был в какие-то лохмотья, в яловые ичиги, а с головы так и не снимал рваную баранью шапку-треух.
– Ну, как тебя звать, гость дорогой? – спросил Головня, суживая маленькие колючие глазки и закуривая «козью ножку».
– Мургашка.
– А фамилия?
– Меня все звал Мургашка. Нас два был – Мургашка и Имурташка. Я, который вот я, и другой, который был главным проводник самого хозяина.
– Какого хозяина?
– Один был хозяин тайга. Ухоздвигов.
– Кем же ты был, второй Имурташка?
– Работал немного. Земля таскал. Всего делал немного.
– На кого работал?
– На хозяина. Кого еще? – рассердился хакас.
– Откуда ты родом?
– Какой «родом»? Не понимайт. Ты кто? Начальник?
– Председатель сельсовета.
– Пошто хлеб не даешь, председатель? Пошто голод держишь? Мургашка закон знает. В тюрьма хлеб дают. Баланда дают. Чай дают. Сахар дают. Прогулка. Советская власть нет закон бить. Ваш колхозник бил! Зачем бил Мургашка? Я шел тайга. Мало-мало охотился. Медведь смотрел. Ружье был. Билет был. Все забрал!
Мургашка, успев отдохнуть, заготовил целую речь. Он, конечно, знать ничего не знает ни о каком Ухоздвигове!
– Все врешь ты, как сивый мерин – сказал Головня.
– Ты, преседатель, не имейт права так говорить. Я сказал: был в тайга на охота, значит, так запиши. Другой ничего не знайт! Ваш холхозник все скажет. Я ничего не знайт!
– Знаешь! Где сейчас Ухоздвигов?
– Может, помер, может, нет.
– Финтит, язва – сказал один из мужиков, стороживший Мургашку с карабином наизготове. – Хитер подлюга.
У Мургашки огонь в глазах. Желтые, прокуренные зубы щерятся – вот-вот укусят!
– Сколько тебе лет, Имурташка? – спрашивает Головня.
– Мургашка я! Мургашка! Трисать зим Мургашке. Сопсем молодой. Имурташке сорок пять зим давно. Должно, сдох теперь Имурташка…
– Тоже мне, молодой! Жених прямо!.. Ссохся весь, как печеное яблоко, грязный, вонючий… Вши вон по тебе ползают. Тридцать зим Мургашке, и уже каюк, да?..
Мургашка хмурится, попыхивает едким самосадом и, чтобы не продолжать разговора с Головней, свертывается калачиком, ложится в угол за шкаф, бормочет:
– Мургашка ничего не знайт. Мургашка будет помирай.
Головня спрашивает у стоящих в охране рабочих прииска – сына и отца Улазовых:
– Их что, не кормили?
– Какое! Буханку хлеба слупили да чаю выдули чуть не с ведро – поясняет Улазов-отец, здоровый, широкоплечий, косматый мужик лет шестидесяти.
– А што, Мамонт Петрович, скоро мы их спровадим в огэпеу? Противно на них смотреть, пра-слово. Люди-то они оба бегучие, что этот Крушинин, что Мургашка. А Крушинин – Улазов качнул головой в сторону охотника, укрывшегося однорядкой – орудовал в нашей тайге при Колчаке. Знаю я его как облупленного. Сдается мне, он да Мургашка этот знают все тайные ходы Ухоздвигова. Без их помощи он бы давно наружу выплыл.
– А ну, поднимите его! – Головня подвинул к себе стул.
Крушинин привстал на локоть, зевнул.
– Значит, бандит со стажем?
Крушинин молчит, будто не у него спрашивают.
– Я у тебя спрашиваю, Крушинин!
– Крутилин я, товарищ председатель. Как вечор говорил, так теперь поясняю: нивчью попался! Пришел вот на заимку, вот этот косоглазый…
– Хе-хе-хе, ловко! Насобачился, стерва – замечает Улазов-отец. – Вы, Иван Михеич, не играйте в прятки. Мамонт Петрович не любит кривых выездов. Говорите правду-матку. Вам ловчее и нам легче.
Крушинин, вылупив глаза, непонимающе помигивает на Улазова. Накидывает на плечи однорядку, садится на пол возле стены, отвечает:
– Да ты чо, паря? Ополоумел или как?
– Давно ли ты, Иван Михеич, перелицовался? – спрашивает Улазов-старик. – Финтишь, а ведь люди-то знают тебя! Не Крутилин ты, паря, а Крушинин. Две буковки переделал в фамилии, а вот про душу-то, паря, забыл. Родом ты, паря, из казачьего Каратуза, а не из Кижарта. Земляки мы с тобой. Аль запамятовал Улазовых? Ты казак и я казак. Ты рубил красных и я рубил красных… по дурости, прости меня, господи, как не разобрамшись. Тогда тебе нашили лычки… Я за свое казачество, паря, отбрякал семь лет, а вот ты бы не сносил головы.
– Вот оно, какие дела! – проговорил Головня, встав со стула.
– Поклеп, товарищ председатель. Обознался мужик-то. А мне-то, мне – петля! Охотник я из Кижарта. Там и семья у меня…
– Ты не сепети – урезонил Улазов-отец. – Я и в Кижарте встречал тебя, и в Сухонаковой!.. Видал, а молчал. Думаю, пусть живет мужик, коль прибился к берегу. Сбежал ты со ссылки-то. По дороге сбежал. И семью свою уволок. Двух детишек схоронил по дороге. Все знаю!.. Но тапернча молчать не стану. Потому – с бандой увязался.
Охотник даже позеленел. По его хищному взгляду, как он смотрел исподлобья на старика Улазова, Головня понял, что он использует любую оплошность охраны, только бы убежать.
– Свяжите его, – сказал Головня. – Скоро мы их отправим.
Сын Улазова, такой же коренастый мужик, как и отец, ни слова не обронивший во время разговора отца с Головней, молча связал руки Крушинину, хотя тот и пустил слезу, умоляя Улазова-старика отказаться от своих слов.
Вскоре после ухода Мамонта Петровича в буфетную зашла Авдотья Головня. Румяная, нарядная, она всегда входила гордо, грудью. Никто еще из мужиков не видел ее угрюмой, мрачной. Она была приветлива, легка на шаг. Авдотья попросила оставить ее на минутку с Мургашкой.
– А ежлив што случится? – косился Улазов. – Ить они в окно выпрыгнут. Тогда как?
– У меня не выпрыгнут! – успокоила Авдотья. – Да вы встаньте один у двери, другой у окна. И охотника возьмите с собой в сени. Я буду говорить одна с Мургашкой. Мне Головня велел, – соврала Авдотья, не моргнув глазом.
– Ну велел так велел. – И ушли.
Мургашка притворился спящим. Но услышав насмешливый голос Авдотьи, приподнялся, невозмутимо посмотрел на нее и, не торопясь, стал набивать алюминиевую трубку.
– Што надо, баба?
– Мне тебя надо.
– Я весь тут. Вот он.
– А весь ли? Может быть, ты здесь, а душа улетела куда-нибудь к Разлюлюевскому местечку? – Авдотья хитровато щурит свои черные глаза, присаживаясь на корточки возле Мургашки.
Мургашка не любит женщин. Мургашка не выносит женского взгляда. Он морщится и пыхает вонючим дымом в лицо Авдотье.
– Да не дыми ты, Сароол!
– Как?! Как?
Мургашка даже трубку выронил от такой неожиданности. Сароол, Сароол! О, великий Хангай! Это же его настоящее имя, некогда пропетое ему над колыбелью матерью. Как узнала баба его настоящее имя? Ведь по обычаю Мургашкиного рода ни одна женщина не смеет вслух произносить имя мужчины. Даже мать поет над колыбелью сына, называя ребенка как угодно, только не своим именем, чтобы злые духи не подслушали и не унесли его. Но, видно, женщины Мургашкиного рода не соблюли этот закон со всей строгостью. И вот налетели злые духи, принесли неизвестную болезнь, и не стало в юрте ни отца, ни матери, ни сестер. Может быть, и Мургашки не было бы, если бы не забыл он навсегда своего имени? Всю жизнь Мургашку знают как Мургашку, и никак иначе. Когда они с братом пришли в тайгу к Ухоздвигову, он приютил их, назвал брата Имурташкой, а его Мургашкой, так это и осталось навечно. Никаких документов у них никто не спрашивал, да они и не имели их. «Ты, Имурташка – сказал золотопромышленник – будешь мой проводник. Я тебя научу понимать тайгу, искать в ней золото. Ты будешь первым Имурташкой на всем белом свете!» А Сароол стал Мургашкой. Когда пропал хозяин, когда пришла Советская власть и Мургашку посадили в тюрьму, чтобы допытаться, куда хозяин упрятал свое золото, Мургашка так и не сказал своего настоящего имени, будто его и не бывало. Круговерть унесла все в тартарары. С тем из тюрьмы и вышел.
– Как? Как ты сказал, баба? – переспросил Мургашка, поднимая трубку.
– Да разве ты забыл свое имя, Сароол из рода Мылтыгас-бая? – удивилась Авдотья, отмахивая ладонью вонючий дым.
– Ты сам шайтан, баба! Как знал – Сароол Мылтыгас? Кто сказал? Ты – кто?
– Твой дом сказал. Я живу в твоем доме, который построил вам с братом хозяин. Хороший дом. Только больно потолки низкие. Как у вас в юртах. Эх ты, Сароол Мылтыгас-бай!..
– Так не говори. Я – Мургашка. Всегда Мургашка.
– А я вот знаю, что ты не Мургашка, а Сароол Мылтыгас-бай. Помнишь, как ты приходил к нам в Белую Елань с братом. Тогда я была еще совсем девчонка. Ты сидел на крылечке… Помнишь? А мой отец и твой хозяин Ухоздвигов Иннокентий Евменыч обсуждали, где лучше построить для вас с братом дом. Я тебя еще напоила чаем. А ты просил варенья и меда. Помнишь? Ну вот. А в твоем доме теперь живу я. В подполье я нашла шкатулку. Там лежали ваши метрики, в труху истертые, какая-то книжка, разные бумаги. Неужели ты совсем забыл про свою юрту, Сароол? Про свою мать.