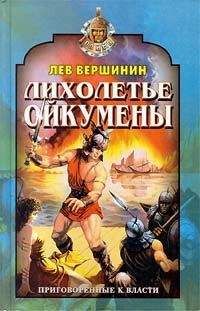Лидия Либединская - Последний месяц года
Сергей Иванович молчал.
— Мы так молоды! — продолжал Бестужев-Рюмин. — Неужели мы никогда не увидим травы, первого снега? Как же Катрин без меня? Я жить хочу! И не хочу убирать! Мы еще так много можем сделать! И за что, Сережа?.. — крупные слезы катились по его впалым щекам.
— Не надо! — ровным голосом проговорил Сергей Иванович. — Нельзя предаваться отчаянию. Мы должны встретить смерть с твердостью, не унижая себя перед толпой.
— Но я люблю жизнь!
— Мы умираем как мученики за правое дело России, измученной деспотизмом. Мне нечем утешить тебя. Да, мы молоды! Но разве важно, сколько лет прожил ты на земле? Главное, как ты их прожил…
Бестужев-Рюмин всхлипнул совсем по-детски.
— Потомство вынесет нам справедливый приговор… — помолчав, сказал Сергей Муравьев-Апостол.
Что-то сказал за перегородкой Пестель, но голос его был слаб, и Сергей Муравьев-Апостол не разобрал слов, только понял, просит поклониться старику отцу.
По коридору ходили люди, разговаривали — там продолжалась жизнь.
На плацу срочно сооружали эшафот. Он был изготовлен заранее, и его везли к месту казни на шести возах. Но один из возов по дороге отстал, самый главный, на котором находилась перекладина с железными коньками. Пришлось делать новый брус и кольца. Стучали топоры, визжали пилы…
В восемь вечера осужденным принесли саваны и цепи. Печальный звон прошел по камере. И снова все смолкло. Солдаты, находившиеся в камерах, плакали.
Бестужев-Рюмин снял с шеи образок, которым благословила его матушка. Он взглянул на образ, вспомнил тихую предгрозовую ночь на Украине, возбужденные голоса, клятву не пожалеть жизни за Россию. Вспомнил, с каким благоговением целовали этот образ. Не защитил он их от гибели.
Михаил Павлович подозвал старого солдата:
— Если сможешь, дружок, передай сестре… — сдавленным голосом шепнул он и протянул ему образок.
— Отдам, батюшка, отдам, голубчик… — тихо всхлипнул старик и провел корявой ладонью по вихрастым рыжим волосам Бестужева-Рюмина.
Рылееву разрешили написать жене. Он взял лист бумаги и задумался. Вспомнил последнее свидание в тюрьме, когда Наташа пришла к нему несчастная, бледная. Она привела с собой Настеньку. Та не понимала, что происходит, радовалась, что видит отца, была весела.
«…Бог и государь решили участь мою: я должен умереть и умереть смертью позорной…» — начал писать он. Просил прощения, утешал, тревожился за судьбу Настеньки:
«…Она будет счастлива, несмотря на все превратности в жизни, и когда будет иметь мужа, то осчастливит его, как ты, мой милый, мой добрый и неоцененный друг, осчастливила меня в продолжении восьми лет. Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами? Они не могут выразить всех чувств моих. Бог тебя наградит за все… Да будет его святая воля!
Твой истинный друг,
К. Рылеев.
У меня осталось здесь пятьсот тридцать рублей. Может быть, отдадут тебе».
На рассвете в камеру вошли плац-майор и сторож. Объявили, что через полчаса надо идти. Рылеев, дописывая письмо, второпях посадил кляксу. Ему надели кандалы. Он смотрел на все равнодушно. Потом съел кусок булки, запил водой.
— Я готов! — сказал он.
Отворились двери казематов:
— Пожалуйте, господа!
У всех пятерых были скованы руки и ноги. Шли медленно, маленькими шажками.
Встретившись в коридоре, осужденные расцеловались.
Громко, протяжным голосом Рылеев сказал, обращаясь к запертым камерам:
— Простите, простите, братья!..
Медленно, мерно, все затихая, прозвенели по коридору цепи.
Взвод гренадеров о примкнутыми штыками окружил пятерых.
Каховский шел впереди один, за ним Муравьев-Апостол с Бестужевым-Рюминым, потом Пестель и Рылеев.
Солдаты, что вели осужденных, дрожали. Казалось, это их должны сейчас казнить, а не этих пятерых…
Осужденных вывели на голый пустырь.
— Подождите, братцы, — негромко сказал один из солдат.
Гремя кандалами, они с трудом опустились на траву.
Плыла над Петербургом белая короткая ночь. Их последняя ночь.
Они тихо переговаривались.
— Встать!
Загремели барабаны. Шли медленно, в белых саванах с черными кусками сукна на груди, на которых написаны фамилии, а внизу: «Злодей. Цареубийца».
На Кронверке лихо играл оркестр Павловского полка. Исполняли вальсы, польки, марши…
Священник Мысловский, сопровождавший осужденных, все время беспокойно оглядывался.
— Чего вы ждете? — спросил Рылеев.
— Гонца с помилованием!
Рылеев пожал плечами и сказал:
— Положите мне руку на сердце, батюшка: бьется ли оно сильнее прежнего?
Полицмейстер еще раз громко зачитал приговор.
Обратись к товарищам, Рылеев отчетливо и спокойно пожелал благоденствия России.
Все пятеро поцеловались, поворачиваясь друг к другу так, чтобы пожать связанные руки.
Первым взошел на эшафот Пестель.
Их поставили на скамейку в полуаршине друг от друга.
Палач надел на головы мешки.
— К чему это? — с негодованием спросил Муравьев-Апостол.
Накинув на шеи веревки, палач сошел с помоста.
В ту же минуту дощатый пол задрожал, провалился. Веревки натянулись.
И вдруг трое — Сергей Муравьев-Апостол, Рылеев, Каховский — сорвавшись, упали. Веревки не выдержали тяжести кандалов.
Мешок свалился с лица Рылеева. Он сидел в яме, скорчившись от боли, и гневно крикнул:
— Черт знает что! Повесить в России и то не умеют! Глухой ропот пробежал по толпе, зашептались солдаты:
— Видно, бог не хочет их казни!
— Вешайте скорее! — визгливо крикнул генерал. Оркестр играл стремительный марш.
Тела казненных положили в грубо сколоченные ящики и увезли на остров Голодай, где зарыли всех в одной могиле…
Эпилог
Приехать в незнакомый город, выйти на улицу, название которой тебе не известно, брести не зная куда, сворачивая из переулка в переулок, разглядывать дома, заходить во дворы, сидеть на бульварах и скверах, наблюдая прохожих, — есть ли на свете что-нибудь увлекательнее?
Идешь по городу, и сведения, полученные на уроках истории и географии, обретают плоть и кровь. Кажется, что город разговаривает с тобой, рассказывает свою трудную многовековую историю.
Была вторая половина дня, когда, отдохнув после шестичасового перелета, я вышла на иркутские улицы.
Позади остался центр, витрины магазинов и фотографий, рекламы кинотеатров. На опустевшем базаре щелкала под ногами шелуха кедровых орехов, редкие продавцы еще торговали за прилавками черемухой и брусникой.
Я шла и шла, переулки засасывали. Дома в этой части Иркутска крепкие, рубленые, с большими окнами и разноцветными ставнями, украшенные искусной деревянной резьбой.
И вдруг… Синяя эмалевая табличка: переулок Волконского! От волнения не знаю, куда идти, останавливаюсь, оглядываюсь. Белая заброшенная церковь, пыльный безлистый скверик. Где же?.. А вот! Чугунная мемориальная доска: «В этом доме жил декабрист Сергей Волконский». И сразу незнакомый город становится родным.
Вот по этому выщербленному крыльцу поднимался седовласый старик, князь, генерал, принадлежавший когда-то к высшей петербургской знати…
Пятерых декабристов Николай казнил. Сто двадцать били лишены всего — семьи, чинов, богатства — и сосланы в Сибирь: одни в каторгу, другие на поселение.
Могила казненных была сровнена с землей, и никто не имел права знать, где она находится.
Ссыльных держали в самых глухих медвежьих углах России, чтобы их крамольные идеи не будоражили умы.
Но правду сровнять с землей нельзя. И заковать в кандалы нельзя. Твердой поступью идет она по миру и рано или поздно торжествует победу.
После казни декабристов Николай короновался в Москве на царство. В церквах служили очистительный молебен в благодарность за победу над мятежниками.
В толпе, заполнившей Кремль, находился четырнадцатилетний мальчик. Его детское сердце гулко колотилось от любви к погибшим и от ненависти к царю. Сжав кулаки, со слезами на глазах клялся он посвятить свою жизнь борьбе с царем, с его троном, оскверненным кровавой молитвой, с его пушками, расстрелявшими декабристов.
Мальчика звали Александр Герцен.
Он выполнил свою клятву. На обложке альманаха, который Герцен стал издавать в Лондоне в первой вольной русской типографии, были впервые напечатаны портреты пяти казненных — Пестеля, Рылеева, Каховского, Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина. И назывался альманах так же, как называли свой альманах Рылеев и Александр Бестужев: «Полярная звезда».
Владимир Ильич Ленин писал: «…их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию».