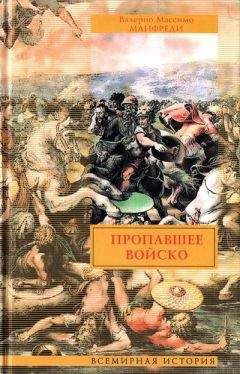Александр Холин - Юность Моисея
— Ты знаешь, Вергилий, — размышлял вслух император. — Ты знаешь, я первый среди равных и восстановлению моей республики, моего государства посодействовали многие из твоих произведений. Даже Меценат отзывается публично и с большим уважением о твоих произведениях. Кстати, его дворец тоже в этих краях?
— Да, — кивнул поэт. — За моими садами на Эвсклинском холме сразу начинается его усадьба. Больше здесь никаких соседей нет. Но иногда бывает, что присутствие нас двоих в одном месте — слишком большая ошибка природы.
— Ты так не любишь общение? — нахмурился Октавиан. — Может быть, и я здесь лишний?
— Вовсе нет, — поспешил успокоить императора хозяин дворца. — Вовсе нет. Я рад нашей встрече. Просто иногда бывает, что рядом не хочется видеть вообще никого, даже слуг.
— Очень хорошо, — кивнул Октавиан. — Я избавлю тебя от слуг, когда пожелаешь. Но я посетил тебя, чтобы узнать, как продвигается написание «Энеиды». Ты около десяти лет работаешь над своим произведением, где затронуто происхождение нашей расы от троянского героя Энея, породнившегося с италийскими латинянами, изгнавших с наших земель этрусков и заложивших Святой Великий город. Это произведение станет для всего мира поважнее, чем однажды написанная Гомером «Илиада».
— Слава богам, — Публий Марон воздел руки к небу. — Но я делаю только то, что даровано свыше, ведь сказал когда-то Лукреций:
«Счастлив тот, кто мог все тайны природы постигнуть,
и попрал ногами шум ненасытного Ахеронта,
но счастлив и тот, кому сельские боги знакомы —
Пан, престарелый Сильван и нимф сестёр хороводы».
О, Август! Я рад бы обрадовать тебя, но моя работа ещё не закончена. Скажем, не совсем закончена.
— Жаль, — покачал сокрушенно головой император. — Помню, как элегик Проперций провозгласил создаваемое тобой произведение во многом превосходящим «Илиаду»:
«Римские все отступите писатели, прочь вы и греки,
Большее что-то растёт и „Илиады“ самой».
Это так, Вергилий? Может ли наше царство ожидать великой книги, поправшей столетия?
— Ты, Август, можешь властью своей повелевать многими, — рассудительно пояснил поэт. — И многие рады будут исполнить волю твою. Но ни ты, ни я не можем править божественным провидением. Только одним богам известно, когда и как писать мне и о ком писать. Письмо отнимает огромное количество животворящей энергии, данной богами. Она быстро рассеивается по письму, а возвращается не всегда в скорости. Если в ближайшее время произведение достигнет завершающего апогея, я обязательно сообщу тебе.
— А известно тебе, Вергилий, — поднял голову Октавиан. — Известно ли тебе, что совсем недавно греки чуть не убили Эсхила, который предсказал падение государства?
— Но ведь я предрекаю совсем иное, о, цезарь, — растерялся Вергилий. — И я не какой-нибудь оракул, вещающий из бездн Дельфийского колодца о сокрушении Вселенной или же о воздвижении Великого царства.
В голосе философа прозвучали какие-то совсем не похожие на человеческое произношение нотки, напоминающие скрип отточенного меча о пузатый бок прозрачной стеклянной вазы, стоявшей здесь же, на полу, возле маленького атриума. Вдруг Вергилий осёкся, поскольку собственное восклицание было произнесено с той нечеловеческой страстью, о которую ударялись многие под небесами этого мира. Да и сам он, будучи в юношеском возрасте подвергся изумительному испытанию, на какое Бог благословляет только немногих. Ведь красота души избранного, высвобожденная победой над плотским началом, помогает творить чудеса во всём. Но когда человек творит что-либо, уповая только на себя, враг человеческий непременно одарит милостью, вроде яблочка, дарованного нашей прародительнице.
Помедлив немного и натужно откашлявшись, поэт решил более приземлено завершить начатую им космическую тему:
— Я вопрошаю чтящего: какое право Бог имел, когда принял решение об изгнании из Рая Адама и Евы — детей своих? Пятикнижие пророка Моисея легло в основу моей книги, о владыка. Я так думаю, что не одно царство и не один император будет ещё окован цепями Пятикнижия.
— Ты говоришь об этом, как будто бы о страшной угрозе, нависшей над Священной Римской империей? Не следует ли из твоих речей заключить, что пора выпустить закон, запрещающий Пятикнижие, а также твою будущую «Энеиду»?
— О нет, владыка! — тут же воскликнул Вергилий. — Вероятно, я не слишком складно построил свою речь. Может быть, мне просто не хватает упражнений в риторике. Кстати, не отменяй ораторских триумвир на сенатской площади, ты можешь потерять не только власть, но и голову.
Далеко не каждый позволял себе давать советы императору. Октавиан Август ничего не ответил, лишь сверкнул глазами, что не предвещало ничего хорошего даже для любимого им поэта.
— Я повелеваю тебе работать без устали и роздыху, — жёстко произнёс император, — ибо твоя работа — важное государственное начало. Я верю в это, и знаю, что так и есть.
На площади возле сената стояло около десятка римских граждан в сенаторских тогах, а, значит, они совсем недавно покинули здание и остановились на площади перед входом, видимо, заканчивая начатую беседу. В триумвирах [48] вождей, возникших на базе сената, чаще зарабатывали нужный триумф в простых, даже площадных выступлениях перед народом, поэтому ораторские изыски ни у кого не вызывали недовольства.
Наоборот, весь площадной люд стекался на прослушивание воззваний, предвкушая реальную последующую словесную стычку. За своё четырёхгодичное правление Юлий Цезарь посеял в стране любовь к диктатурной демократии, что начиналось с таких вот выступлений и кончалось междоусобными побоищами: каждый свободный гражданин имел право на место под солнцем.
Даже много веков спустя один из знаменитых философов отметит время правления Октавиана Августа как воистину золотое для Римской империи. В те года «купеческий капитал достиг без какого-нибудь прогресса в промышленном развитии более высокого уровня, чем когда-либо прежде в древнем мире». [49] Поэтому площадным выступлениям власть не препятствовала, ибо именно там любой римлянин мог высказать всё, что он думает и предложить какой-нибудь выход из создавшегося положения. На этих зачатках свободы слова укреплялась сама суть государственности.
И всё же многие ораторы зачастую привлекали внимание толпы, чтобы просто себя показать, мол, смотрите все: вот я и не боюсь ни стара, ни млада, ни всяк случайного человека. Но на этот раз одним из случайных кликуш оказался молодой патриций, неизвестный Вергилию, вещавший благородному собранию интересные мысли, поскольку дело касалось Пятикнижия Моисея, а это в Риме давно вызывало интерес у самых разных слоёв населения.
— Чем же было подкреплено наказание нарушителей Закона, свободные граждане? — обращался выступающий к слушающим его римлянам. — Наказание подкрепилось изгнанием! Изгнанием на правовой основе, ведь сказано было: не вкушать плода с дерева Добра и Зла! И ежели еврейский Бог, провозгласивший Закон, не хотел, чтобы это произошло, зачем же тогда поместил дерево в центре райского сада, а не где-нибудь за стенами?
— Ты намекаешь, что талмудский Бог допустил нарушение Закона, провозглашённого им же? — спросил оратора Публий Аквила.
— Если бы дело было в простом нарушении! — воскликнул тот. — Ведь еврейский Иегова привлёк внимание Адама и Евы как раз к тому месту, где находилось дерево! Это ли не призвание к искушению, оставаясь при этом совсем в стороне?!
Пламенная речь оратора заинтересовала не только стоявших рядом сенаторов. Вокруг уже начал собираться простой люд, среди которых были легионеры, богатые граждане, иноземные купцы и просто зеваки. Все прислушивались к забавным речам не запрещённых законом, поскольку речь держал человек, одетый в сенаторскую тогу. А никакой сенатор зря говорить пред свободной публикой никогда не станет.
— Если бы еврейский Бог ничего не сказал своим детям, — продолжал патриций, — то поколение за поколением, проходя мимо означенного древа, просто-напросто не обращало б на него никакого внимания, и никого бы не заинтересовал запретный плод. Ведь вокруг много было деревьев, на каждом плоды. Зачем лезть в самую чащу, когда плодов достаточно с краю? Зачем срывать неизвестный плод, если вокруг много свежих, вкусных и уже испробованных?
— А не думаешь ли ты, что запретный плод всегда сладок? — раздался голос из толпы слушающих.
— Вот именно! — снова воскликнул оратор. — Вот именно, запретный! Но в том-то и дело, что никто ничего пока не запрещал! Запретным плод становится только после запрета, то есть после провозглашения Закона.
— Ты хочешь сказать, что провозгласивший Закон подверг своих детей испытанию? — спросил выступающего ещё один римлянин. — Не выглядит ли эта причина специально выдуманной?