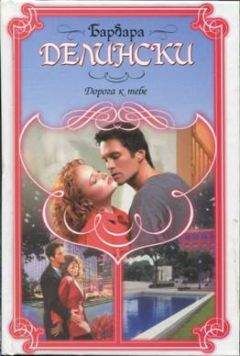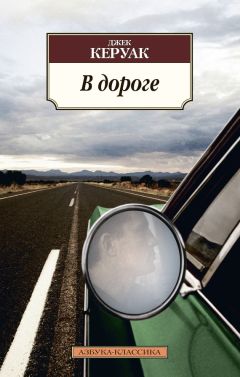Лев Кокин - Час будущего: Повесть о Елизавете Дмитриевой
Дочери Маркса слушали с большим интересом, это и их задевало за живое, в особенности Женни. Не случайно же она собирала книги о выдающихся женщинах всех времен — от древнего Востока до Великой французской революции. Ими-то, главным образом, и зачитывалась у себя Лиза в хмурые лондонские дни.
Возвращая прочитанную книгу, прежде чем взять другую, она живо обсуждала ее с Женни, и от романов мадам де Сталь или мемуаров мадам Лафайет разговор возвращался к той теме, которую с доктором Марксом Лиза, понятно, не решилась бы обсуждать, а с Женни эта тема возникала сама собою.
— Умри, но не давай поцелуя без любви! — горячо повторяла Лиза за Чернышевским. — Но это еще не все, далеко не все! Разве вы не знаете, Женни: когда любящие соединяются, как быстро подчас исчезает поэзия любви. Не так у новых людей! Они смотрят на жену, как смотрели на невесту, потому что знают, что она свободна в своем выборе и вольна уйти. И, признавая за нею эту свободу, возвышают тем самым и ее, и свое чувство к ней.
И Лиза цитировала:
— Любовь в том, чтобы помогать возвышению и возвышаться… Только тот любит, у кого светлеет мысль и укрепляются руки от любви… Только тот любит, кто помогает любимой женщине возвышаться до независимости… Только с равным себе вполне свободен человек!
— Я слышала: Мавр высоко ценит Чернышевского как мыслителя, экономиста, философа, — не без волнения говорила Женни. — А он, оказывается, к тому же истинный поэт, ваш Чернышевский!
— Поэт? Да, да, конечно. Но, думается, он более чем ученый и более чем поэт. Вот послушайте, что написал о нем признанный поэт, — она произнесла это слово с ударением и стала читать по-русски стихотворение, только недавно услышанное в Женеве от Утина.
Николя вспомнил его к слову, когда Лиза передала ему так задевшие ее высказывания бывшего поручика о Рахметове, и очень удивился, что Лиза этого стихотворения не знала. А она заставила его повторить и записала.
Не говори: «Забыл он осторожность!
Он будет сам судьбы своей виной!..»
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой…
Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.
Голос Лизин прервался, Женни, которая не поняла по-русски ни слова, почувствовала ее боль и не стала торопить с переводом. Немного погодя Лиза сама принялась передавать строку за строкой по-французски — может быть, оттого что слушательница ее считала этот язык более сердечным:
«Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других!»
— Кто написал это?!
— Не знаю… Эти стихи никогда не печатались, да и вряд ли могут быть напечатаны — в России. Передавали их, как водится, изустно, — Лиза помолчала немного. — Я думаю, они довольно давние, ведь час, о котором сказано как о будущем, на самом-то деле уже много лет назад наступил… теперь-то, если так говорить, он уже восемь лет на кресте!..
И, говоря так, думала, что, может быть, эти долгие годы подошли к концу благодаря незнакомому ей человеку, Ровинскому, думала, что Ровинский должен был добраться или вот-вот доберется до места и, кто знает, может быть, счастье уже улыбнулось ему?!
3
Нельзя сказать, чтобы лондонская жизнь оказалась уж такой беспокойной, нет, напротив, по сравнению с тем, что было в Женеве, Елизавета Лукинична могла себя почувствовать на отдыхе в этом громадном, мрачноватом, вечно сыром, всегда чем-то озабоченном, дымящем, грохочущем городе. Но, странное дело, в действительности отдыхала, наслаждалась душой лишь в одном-единственном месте, и этим единственным местом, оазисом в густонаселенной пустыне, этим праздником души стал для нее дом Маркса. В том, что утинское поручение оказалось не таким-то простым и легко исполнимым, была своя хорошая сторона!
Когда она узнала, что в гостеприимном этом доме деятельно готовятся к рождественским праздникам, ей более не пришло в голову разрешать по этому поводу какие-либо религиозные сомнения, как это случилось с крестиком Женнихен.
Уже накануне, в сочельник, дом был напитан такими ароматами, что встретивший Лизу, по обыкновению, у дверей лохматый пес Виски выглядел совершенно ошеломленным. Принимаемая как своя, Лиза была допущена к священнодействию в подвальном помещении, по-английски занятом кухней, где все женщины во главе с госпожою Маркс или, точнее, во главе с несгибаемой Ленхен (при участии Мэмхен) дружно крошили миндаль, нарезали апельсинные и лимонные корки и, замешивая все это вместе с яйцами и мукою, сотворили завтрашний пудинг.
Лиза должна была явиться всенепременно, хотя бы по той причине, что ей за этим столом предстояло, как весело объявила Тусси, представлять свою Россию и за себя, и за Германа Лопатина, тоже сдружившегося со всем семейством (Женни даже утверждала, что прямо-таки влюблена в него, в его ясную голову и острый язык) От Лопатина только что пришло по почте письмо с сожалением, что, увы, он не сумеет воспользоваться приглашением, поскольку ему неожиданно пришлось покинуть гостеприимные острова.
Огорченная (впрочем, ненадолго) Тусси, таким образом, окончательно лишилась единственного своего ученика по английскому языку, пустившегося, как сообщил он в письме, в собственные приключения, вместо того чтобы спокойно читать о чужих. Что это были за собственные приключения, не известно было ни Тусси, ни Женни, ни даже, по их словам, Мавру, на их расспросы отвечавшему лишь, что Лопатин уехал на континент.
За рождественский стол, совершенно английский, при зажженных свечах и камине, вокруг непременной индейки и широких графинов с темно-красным напитком вместе с обитателями дома уселись друзья — щеголеватый Энгельс с молчаливой женою-ирландкой и малюткою Пумпс, знакомый Лизе по Базелю Лесснер, еще несколько гостей.
Как при всяком дружеском застолье, разговоры были оживленны и не слишком-то упорядоченны. От похвал кулинарным шедеврам вдруг переходили к последним новостям из осажденного пруссаками Парижа, и тогда все прислушивались к тому, что думает по этому поводу Фред Энгельс, чей военный авторитет считался настолько непререкаемым, что, с легкой руки Женни, его стали называть Генералом.
Заикавшийся, по уверениям друзей, на двадцати языках, Фред Энгельс, обращаясь к Елизавете Лукиничне по-русски, просил звать его Федором Федоровичем и по разным поводам затрагивал русские темы; доктор Маркс охотно поддерживал их, что было, разумеется, не просто знаком вежливости по отношению к Лизе, но показывало интерес к этим темам. Впрочем, и серьезность этого интереса вовсе не отягощала праздничного застолья, сопровождавшегося и шутками, и тостами, и пением, и танцами.
Как ни интересно и легко было за этим столом, Лиза все-таки чувствовала себя чуточку настороже — не от тех ли обсуждений российских проблем, какие то и дело вспыхивали возле нее или, может быть, из-за нее. Назавтра она как бы заново повторяла себе именно эту часть разговоров — если уж не для того, чтобы тут же найти ответ на утинские вопросы, то хотя бы ради будущего пересказа в Женеве. Остальное же, как менее существенное, пропускала.
Доктор Маркс говорил:
— В период революции сорок восьмого года и монархи европейские, и буржуа видели в царе всея Руси единственного спасителя от пролетариата, только еще начавшего пробуждаться.
Энгельс вполне соглашался:
— Да, помнишь, Мавр, как в «Новой Рейнской газете» мы призывали к революционной войне против царизма? Нам было ясно, что это единственный действительно страшный враг!
Потом Энгельс вновь вернулся к этому разговору:
— С тех пор, разумеется, немало воды утекло, пореформенная Россия не та, что при Николае… и все же это по сей день резерв реакции. Но, к счастью, есть обнадеживающие признаки: русский медведь просыпается.
И выстраивал доводы: финансы в состоянии плачевном, налоговый пресс отказывается служить, сельское хозяйство в полном запустении, крестьяне обобраны…
— Отмена крепостного права, — поддержал его доктор Маркс, — в сущности, лишь ускорила процесс разложения. Предстоит социальная революция!..
— Каков будет результат этой революции — вот главное, — с увлечением воскликнула тут сама Лиза. — Нам кажется, что гнет, давящий русский народ, в сущности, одинаков с гнетом, под каким задыхается пролетариат Европы, и важно, что в народе русском издавна живет тяга к осуществлению тех великих начал, что провозглашены Интернационалом, — к общинному владению землей и орудиями труда.
— Община? — поморщился Энгельс.