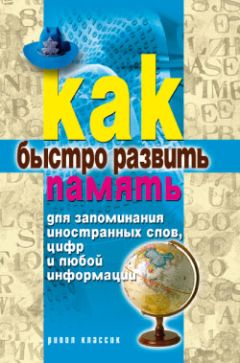Нина Соротокина - Кладоискатели. Хроника времён Анны Ивановны
— А что, Варвара Петровна, знаете ли вы такого человека — Сурмилова Карпа Ильича? — спросил он у тетки за завтраком.
— Кто ж его не знает, червонного туза? — отозвалась с удовольствием тетка. — Сейчас он в Париже с заданием от государыни. Обворует он францужан, вот что! Он кого хочешь обворует, а Господь это простит. Иные ложку деревянную стащат и уже в холодной. А Сурмилову все с рук сходит.
— Значит, он в Петербург еще не вернулся?
— Нет, друг мой, я бы знала. А за какой тебе надобой этот Сурмилов?
— Исключительно по зову сердца, — вполне правдиво ответил Матвей.
В настоящее время сердце его было занято прелестной особой с ямочками на щеках и целой россыпью мушек, наклеенных на самых разных участках ее мордашки. Особа служила в модной французской лавке. С первой же встречи при длительном обсуждении кружев, которые подошли бы к манжетам Матвеевой рубашки, они поняли, что смотрят одинаково не только на детали туалета, но и на весь мир. Особу звали Мими, хотя Матвей подозревал, что она Мария или Марфа. Но в австерии[18], когда сидишь у жаркого камина, пьешь полпиво и обгладываешь бараний, хорошо прожаренный бок, куда как лучше, если напротив тебя сидит живая и гибкая, современная в суждениях, а потому раскованная, играющая во француженку девица, нежели немая от страха русская Марфа. А Мими… О! несравненная Мими!
Но не все развлекаться, надобно подумать и о хлебе насущном, Матвей ушел в свою комнату, спросил бумагу, перьев и чернил. Перьев принесли целый пук, и он их все собственноручно очинил. Писать предстояло много. Об истинной любви без десяти черновых вариантов не расскажешь.
Где находится Елизавета Карповна, он не знал и даже предположить не мог, но посольский писарь и плут Зуев знал наверняка, потому что это ему по должности положено. Значит, надо написать два письма в одном куверте.
Письмо писарю он состряпал быстро. «Друг, Федор Кондратьевич, помнишь ли наш уговор?.. Перешли письмо это незабвенной Елизавете Карповне, чтоб попало оно прямо в ее белые руки, минуя Аргуса, то есть папеньку». Потом подумал и на всякий случай, чтоб обезопасить себя от подлости Зуева (с кем не бывает?), приписал: «Дела мои благополучны, но любовь точит сердце, не дает забыть прекрасную. Сообщаю также, что обещаний, тебе данных, не забыл. Остаюсь…» и прочая, прочая.
А над письмом к Лизоньке пришлось попотеть. Перья и бумага так и таяли, рука сама строчила, а слова ложились холодные. Письму надлежало дышать истинной страстью, а где ее взять, милостивые государи? Вначале он представил, что пишет письмо Мими, тогда текст получался совсем глупый. Зачем писать, если он сегодня ее и так увидит, и не только увидит… Для письма нужен плод запретный, недосягаемый. Такой «плод» тоже значился в его негласном списке. Матвей попробовал представить себе красавицу мадам, которая квартировала у полковничьей вдовы во флигельке, куда они гурьбой захаживали выпить вина и послушать ее миленькие песни. Мадам Женевьева Карловна была девица свежая, как бутон, грудь имела весьма соблазнительную, ручки-сдобочки, все в перевязочках, в перстеньках… обворожительная женщина. До Матвея у нее очередь пока не дошла, но он верил в свою судьбу. Скоро этот кавалергард с тараканьими усами ей прискучит, а далее, если подпоручик Буеров мешкать начнет, точно придет очередь Матвея. А пока попробуем представить, что он пишет ей, Женевьеве Карловне.
Итак… «Драгоценная Женевьева Карловна!» Что же он, дурак, имя-то мадамы написал? Только бумагу испортил. Хотя, с другой стороны, может быть, имя как раз и поможет страсть передать. Имя можно потом соскоблить… ножичком, а другое вписать.
«…С тех пор, как я увидел вас, веселую и драгоценную, нет мне покоя. Сердце мое томится и трепещет, как птичка, что в поднебесье ликует и шлет свои песни Творцу. Так и ваш ангельский голосок волнует меня до жилочки, а как пальчики ваши начнут струны перебирать да как гитара-то охнет…» Стоп! Опять он чушь написал.
Цитату надобно. Хорошо бы что-нибудь из Ларошфуко, он на язык остер и галантен в своей словесности, как никто. Все подает эдак с насмешкой, но и с мудростью.
Матвей потянулся к полке, где стояли привезенные из Парижа книги (всего-то четыре штуки, но он их с гордостью называл «библиотека»). Зачитанный томик галантного француза открылся на нужной странице: «Любовь подобна привидению, все о ней знают, но никто ее не видел». Правда ведь, истинная правда, но об этом возлюбленной Лизоньке не напишешь. Не поймет… Прево с «Манон Леско» ему тоже не помог.
Тогда он решил писать, надеясь только на собственные силы.
«Лизовета Карповна, нет, Лизонька! Мечта жизни моей, прекраснейшая из дам! Обстоятельства чрезвычайные разлучили нас, но нет такой силы, которая изъяла бы ваш образ, богиня, из моего сердца. Я мог бы написать вам просто любезное письмо, но, право, глупо слать через тысячи верст пустую цедульку, не соответствующую истинному моему состоянию. У меня все благополучно. Жизнь моя в Петербурге могла бы быть даже радостной, если б не наша разлука. О, я не помышляю о нежных лобзаниях, которых жаждет натура моя, но спасением было бы знать, что вы обитаете в том же граде, где и я нахожусь, дышите тем же воздухом, и волшебная ваша ножка ступает на те же плиты, на которых, быть может, стоял вчера и я, ища глазами окна ваши. Сейчас все не так, все мгла. Как представлю дорогу, длинную, извилистую, прочерченную рукой Всевышнего через многие государства (ту дорогу, по которой, будь моя воля, побежал бы к вам через ночь и пургу), то душа упадает в печали.
Как досадно, что обстоятельства не дозволяют мне делать вам вопросов. Бог весть, услышу ли я когда-нибудь ответы на них из ваших ангельских уст? Если бы вы были рядом, я бы спросил: «Помните ли вы меня, драгоценная? Остался ли в душе вашей тот вечер, когда в танце я коснулся ваших пальчиков? Не скучно ли вам в Париже, в этом суетливом и вертопрашном граде, вдали от отечества, где с томлением плачет по вас живая душа?» Все… Я не в силах продолжать, рука дрожит, и глаза увлажняются невольной слезой. Весь запас слов исчерпан мною, но одно горит в памяти надеждой и верою. Его и начертаю вам: До свидания! Ваш Матвей Козловский».
Матвей не стал переписывать письмо набело, оставил все как есть, упаковал оба письма в один куверт и отнес в Иностранную коллегию, которая отсылала дипломатическую почту в Париж раз в неделю.
Предположения Матвея были верны, писарь Зуев без особого труда выяснил, где находится Сурмилов с дочерью. Мы не знаем, как было доставлено письмо в старый, увитый плющом особняк в Бургундии, привез ли его из Парижа курьер или почтовая карета, которая посещала эти места регулярно, но одно можем утверждать с полной достоверностью: «непосредственно в бесценные руки Елизавете Карповне» оно не попало.
Письмом завладел Сурмилов. Оно было прислано в пакете с дипломатической печатью, Карп Ильич и внимания не обратил на то, что на пакете значилось имя дочери. Сложно описать чувства, овладевшие им по прочтении цветистой эпистолы, слишком эти чувства были противоречивы. Первым ощущением была злость: наглец, бездельник, ветрогон! Прокричал ругательства, да вдруг и развеселился: ну, Лизка, ну, негодница, кокетка, как она этого петиметра модного губошлепа приворожила? Он долго поводил плечами, похохатывал, вытирал увлажнившиеся глаза большим фуляром[19]. Покажу письмо дочке-цветочку, и посмеемся вместе. Конечно, ее надо пожурить, что дает повод добру молодцу калякать эдакие излияния, но, с другой стороны, он сам, отцовской волей, в свет ее вывез, дабы развлечь. Что ж теперь-то…
Прочитав письмо второй раз, он призадумался: а может быть, малый этот не такой уж дурак и пиит, каким хочет казаться? Может, он умный, алчный проныра? Последняя мысль в корне поменяла намерения Карпа Ильича. Можно ли спокойным оставаться, если любителей богатого наследства вокруг, как хищных волков — стаями! Да и на дочь положиться никак невозможно. Вобьет себе в голову дурь, мол, сохнут по ней, потом от этой заразы не избавишься. Он спрятал письмо под ключ и решил ни под каким видом не показывать его дочери.
День молчал, два, а потом спросил как бы между прочим:
— А помнишь ли того молодого князя, с которым в Париже танцевала? Как его зовут-то?..
Лизонька ясно глянула в глаза отцу.
— Князь? Нет, не помню.
— Ну как же ты запамятовала? Князь Матвей Козловский.
— Будто бы да, батюшка. — Она улыбнулась, — Он смешной… — И больше ни полслова.
Карп Ильич продолжил атаку, надо все досконально разузнать, чтоб потом не думалось.
— В Россию хочешь? Соскучилась по дому-то?
— А мы разве домой собрались?
— Нет, пока мне недосуг. Дел много. Вот по весне дороги обсохнут, тогда и двинем.
— По весне так по весне. — Лизонька безучастно смотрела в окно.