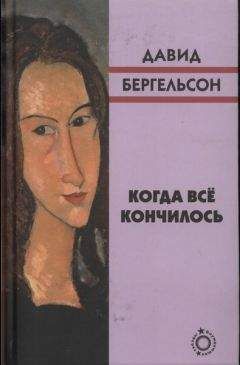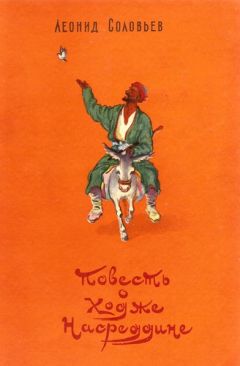Давид Бергельсон - Отступление
— Целый день, — говорит, — у меня просидел.
Так передает Фишл Рихтман.
Его спрашивают:
— Прегер, а что вы думаете про Хаима-Мойше?
Тогда он тремя пальцами с серьезным видом прижимает к переносице пенсне и отвечает: главное, что он, Хаим-Мойше, тоже недовольный.
— Благодаря недовольным, — говорит он, — у мира остается надежда.
Но Аншл Цудик никак не может с этим согласиться; он среди тех, кто стоит на площади вокруг Прегера и слушает, как тот несет всякую чушь.
— Ну а если агент Залкер, — возражает он, — недоволен своей женой и если портной Шоелка хочет чернявую Лейку, но не может ее уломать, значит, тогда у мира остается надежда?
Он скептик, Аншл Цудик, и пару лет провел в Палестине; он вообще не верит, что в диаспоре можно что-то построить.
Так об Аншле Цудике рассказывает Хаиму-Мойше Фишл Рихтман. Потом из нового города возвращается жена Фишла. Она рада видеть Хаима-Мойше.
— Посмотрите-ка, — говорит, — кто к нам пришел.
Она взяла у Фишла малыша, которого он держал на руках, и села за стол. Расстелила цветастую скатерть. И пусть Хаим-Мойше даже не думает уйти до чая; сейчас она самовар поставит.
— Раз у нас такой гость, — сказала, — давайте отпразднуем как следует.
И быстро устроила настоящий праздник. Оказалось, не такая она простая, жена Фишла. Неслучайно из всех парней Ракитного выбрала Фишла, который тоже был экстерном. На вид она немного старше мужа, но есть в ней сила человека, который стремится к лучшему. Хотя по характеру тихая, у нее вся семья была такая. При этом знает все, что делается в городе. Говорит неторопливо, будто жена раввина, не любит трепать языком. И считает, что все в мире не так просто:
— Всегда что-то на поверхности, а что-то скрыто внутри.
— Как-как? — переспрашивает Хаим-Мойше, и веселые огоньки загораются у него в глазах.
— Разве, — говорит она, — вы этого не знали?
Она считает, что Хава Пойзнер не очень-то легко заполучила Деслера.
— Изрядно пришлось потрудиться, — говорит.
Поворачивает ребенка, подносит к другой груди и добавляет:
— Растопить такую льдину, как Деслер, когда у тебя до него было семеро, — очень нелегкая работа.
— А Ойзер Любер, — говорит она, — Ойзер Любер не просто так три месяца в Киеве. Ясно, кого-то там нашел, причем не еврейку, христианку. Что ему там делать, если у него тут затея с мельницей? Узнают о его гойке? Ну, даст еще тысячу на городские нужды. Ханка Любер? Это совсем другое. Вся в мать, как две капли воды.
Они с женой Фишла дальние родственницы, она ее хорошо знает. «Такой, — говорит, — на всем свете больше не сыщешь». Да, эта Ханка, которая так похожа на свою мать, сейчас живет вдвоем с Мотиком в просторном, высоком доме, и никто не знает, известно ли ей, чем занимается в большом городе ее отец.
Стоило бы посидеть еще немного, послушать, что расскажет о ней жена Фишла Рихтмана, но у Хаима-Мойше нет времени, надо спешить. Он прощается и уходит.
* * *Через пару дней Хаим-Мойше все-таки встретился с Ханкой на зеленой окраинной площади, где растут молодые тополя. Было жарко, на улице ни души. В такую погоду лучше сидеть дома, в холодке.
У Хаима-Мойше вспыхнули веселые огоньки в глазах, но у Ханки защемило сердце. Наконец она все же смогла заговорить:
— Вы уезжаете, мне Эстер Фих сказала.
— Эстер Фих?
— Да. Уже, говорит, решено, Хаим-Мойше уезжает.
— Подождите…
Ему и правда накануне повстречалась Эстер Фих. Спросила: «Что с вашим отъездом?» — «А что с отъездом? — ответил он. — Наверно, когда-нибудь уеду». Вот и все, что он ей сказал.
Что-то случилось с Ханкой. У нее перехватило дыхание, она медленно подняла пушистые ресницы и посмотрела на Хаима-Мойше. Да, она верит, что он больше ничего не сказал Эстер Фих. Они идут по зеленой площади мимо молодых тополей, подступивших к самому дому Люберов. Но Ханке все еще трудно говорить.
«Может быть, им лучше сейчас расстаться, ей и Хаиму-Мойше…»
«Ханка куда-то торопится?»
«Нет, просто…»
Пауза.
Она продолжает, не глядя на него: «Они оба вышли из дома каждый по своим делам, так, может, лучше и идти по своим делам?.. Она никуда не торопится. Просто она думает, что будет лучше, если она пройдет немного, всего две улицы, и узнает, скоро ли приедет Этл Кадис. А потом вернется домой, ничего с ней не случится. Но вот… Вот она берет Хаима-Мойше за руку и чувствует, что с ней, Ханкой, что-то происходит… Нет, это не глупости, совсем не глупости. Она даже забыла про Мотика.
Поначалу ей казалось, что ей ничего не надо от Хаима-Мойше, не надо даже его видеть. Пусть живет себе в лесу. И пусть кто попало звонит в парадную дверь, а она будет думать, что это он. А потом ей захотелось его видеть, это было, когда она вышла из магазина Пойзнера и увидела их, Хаима-Мойше с Прегером. Почему он так долго там стоял? Наверно, она тогда глупо выглядела. Несколько раз направлялась к нему и все время поворачивала обратно… Ей стыдно об этом рассказывать: она никогда не думала, что может что-нибудь написать, но в те дни взяла и написала. Глупо, конечно. Вчера она все разорвала, но это потому, что она очень хотела его увидеть… Она всегда боялась сильных желаний. Может, она религиозна, как была ее мать. Она не знает. Это было, когда ее мать умерла, Мотик тогда был совсем маленьким. И как раз тогда старший брат взял из кассы немного денег и убежал из дома. И Ханка почувствовала, что очень сильно что-нибудь хотеть — это преступление. Ей, Ханке, нельзя хотеть… Но почему она постоянно думает, что ему, Хаиму-Мойше, хуже, чем ей?.. Все время сидит и думает, что ему гораздо, гораздо хуже. Она не знает, где бы ему могло быть хорошо. А к ней еще повадилась ходить эта Эстер Фих, придет и говорит, говорит. „Вот увидите, — повторяет, — и дай Бог, чтобы я ошиблась…“»
«Да нет же…»
Хаим-Мойше, кажется, замечает, что Ханке тяжело говорить, он хочет ей помочь.
«Ничего страшного, это мелочи».
«Нет, ему ничуть не хуже. Наоборот, иногда он стыдится, что ему намного легче, чем, например, Ицхоку-Беру. Ханка знает Ицхока-Бера? Этим летом он решил посмотреть, что там с Ракитным, городом, где он родился. Он уже продал инвентарь и медикаменты агенту Залкеру и ждет, когда тот перешлет деньги для матери Мейлаха и всё заберет. Он каждый день ходит в город, но Залкер все не присылает телег. А сейчас он шел к Ханке, потому что очень захотел ее повидать; он часто думает о ней в лесу, думает о ней и теперь, когда держит ее за руку и они смотрят друг другу в глаза. Что было бы, если бы Мейлах был жив и они с Ханкой пошли к нему? Ханка не захотела бы повидать Мейлаха?.. Почему она побледнела?.. Почему кажется, что сейчас Ханка закроет глаза и зашепчет молитву, начнет просить Бога за кого-то? Нет, если это ее пугает, он больше не будет так говорить, он отведет ее домой и вернется в лес. У него там еще одно дело, которое надо обязательно довести до конца».
И, обеспокоенный, он пошел в лес, к себе в комнату. И повторял про себя:
«Да, этот Мейлах…»
Вернувшись, он сразу сел за недописанные листы, лежавшие у него на столе.
……………………
— Тоска, собственно, ничего не стоит, Мейлах. Тоскуют по мертвым.
— Они снова родятся, Хаим-Мойше.
В комнате было уже довольно темно, мрачно. Безмолвный лесной вечер заливал открытые окна. Сумеречная синева потихоньку стирала улыбку со статуэтки Мейлаха, и что-то опять мешало ему, Хаиму-Мойше, закончить свое дело. Сначала из коридора послышался скрип двери, тихий, слабый, приглушенный скрип. А потом заскрипела и отворилась дверь в его комнату.
— Кто там?
— Никого, никого, Хаим-Мойше. Это я, Ицхок-Бер.
XX
Наконец-то из Берижинца пришли подводы агента Залкера и забрали инвентарь и медикаменты из аптеки Мейлаха.
Телеги все утро простояли возле аптеки, их нагружали лениво, медленно. Лошади хрустели овсом, опустив морды в торбы, на секунду прекращая жевать, смотрели по сторонам и не узнавали чужого города.
И вот телеги тронулись. В два часа дня они проскрипели по длинной центральной улице, нагруженные шкафами, полками и ящиками. Сверху была привязана кровать Мейлаха, на ней качались две перевернутые табуретки, уставив ножки в небо.
В доме не осталось ничего, кроме голых пыльных стен и бумаг, рваных бумаг на полу под ногами. Нет даже замка на наружной двери, и Хаима-Мойше теперь редко видят на улице.
Вечер в честь талмуд-торы с каждым днем все ближе, его ожидают с нетерпением, будто предстоит свадьба, на которой все Ракитное — сваты; готовятся к танцам.
В тот день пораньше покончили с обедом.
С утра мамы вымыли детям головы, а отцы выдали порции наставлений, лениво и не слишком уверенно, вроде как в шутку. Теплый ветерок проворно гнал к горизонту остатки облаков, уничтожая всякий намек на дождь, а на углу окраинной улицы, недалеко от крашенного розовой краской склада Бромбергов, стояло недавно побеленное здание, снятое для вечера. Ханка Любер и Эстер Фих задержались там дольше всех, быстро расставили столы и пошли домой переодеться.