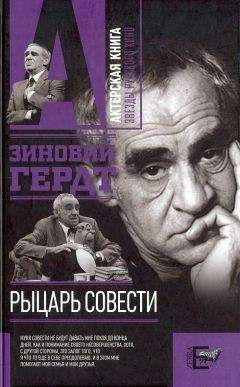АБ МИШЕ - ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ
Л. ГИНЗБУРГ:
Шпеер [архитектор Гитлера, позднее министр вооружений] объяснял, что в партию его привела “эстетика” национал-социализма с его тягой к величию и грандиозности. Шпеер снискал широкую известность своими инсценировками нюрнбергских партайтагов с факельными шествиями, стеной подсвеченных прожекторами знамен, он же был автором проекта нюрнбергского стадиона... Кроме того, он... разработал план перестройки Берлина, превращения его в десятимиллионный город с заменой старых домов новыми, гигантскими строениями, отвечающими “стилю эпохи”.
Идея создания нового Берлина как столицы великой Германии возникла у Гитлера в 1936 году... Посреди города намечалось построить триумфальную арку, намного превосходящую величиной парижскую: Гитлер во что бы то ни стало стремился перещеголять Париж и даже
Унтер-ден-Линден приказал сделать на двадцать метров шире Елисейских полей... Главной же достопримечательностью Берлина должен был стать “Большой дворец”, увенчанный куполом с изображением земного шара, на котором восседает германский орел. Когда-то, еще в двадцатых годах, Гитлер сам сделал наброски этих сооружений - несколько эскизов, хранившихся как строго секретный документ в особом сейфе...[59,1969, № 11, с. 100].
А. СУЦКЕВЕР (оккупированный немцами Вильнюс):
...нас увели в гетто. Когда шли по той улице, где я был... немцы привезли больных евреев из госпиталей. Они были еще в синих халатах. Их всех поставили, а впереди ехал немецкий фильм-оператор и снимал эту картину [3, т. 1, с. 853].
Сугубый реализм. Как и в прикладном искусстве: быт эсэсовцев скрашивали абажуры из татуированной человеческой кожи и потешные сувениры - мумии отрубленных голов. Экспонаты готовили (убивали и обрабатывали) бухенвальдские узники [3, т. 1,с.828; 61, с. 116].
Зато в живописи - поп-арт. “Они были повешены на крюках, точно картины на стенах”, - это слова эсэсовца о повешенных им в погребе концлагеря Булленхаузендам двадцати еврейских детях в возрасте от 5 до 12 лет. До казни дети были подопытными - медики впрыскивали им туберкулезные бациллы [4, с. 211-212].
Еще любили фобианцы музицировать...
Э. РАССЕЛ (концлагерь Нойенгамм):
Осенью 1942 года санитар... загнал... 197 русских военнопленных в камеры и накачал туда газ... Все они умерли. Затем их вытащили, взвалили на грузовики и увезли. Всех заключенных согнали, чтобы они могли видеть эту ужасную картину, и заставили петь песню, первая строчка которой гласила: “Привет, любимый трубадур, будем веселиться и радоваться” [4, с. 211].
Ш. КАЧЕРГИНСКИЙ (колыбельная песня еврейским детям оккупированного Вильнюса):
Тише, сын мой, тише, милый,
Здесь страна гробов.
Враг рассеял их повсюду
И посеет вновь.
Все пути ведут в Понары,
И возврата нет.
Наш отец ушел в Понары,
С ним погас наш свет [5, с. 108].
Из материалов Нюрнбергского процесса (Яновский лагерь):
Пытки, истязания и расстрел немцы производили под музыку. Для этой цели они организовали специальный оркестр из заключенных... Композиторам немцы предложили сочинить особую мелодию, которую назвали “Танго смерти”. Незадолго до ликвидации лагеря немцы расстреляли всех оркестрантов... [3, т. 1, с. 521].
С. КУЗЬМИН (последний концерт Яновского оркестра):
В... серый ненастный день 40 человек из оркестра выстроили в круг, их окружила плотным кольцом вооруженная охрана лагеря. Раздалась команда “Музик!” - и дирижер оркестра Мунт, как обычно, взмахнул рукой. Над лагерем понеслись терзающие душу звуки. И тут же прогремел выстрел. Это первым нал от пули палачей дирижер львовской оперы Мунт. Но звуки “танго” продолжали звучать над бараками...
Исступленно кричал комендант лагеря: “Музик!”. Все громче играли музыканты, понимая, что на сей раз они исполняют реквием самим себе... По приказу коменданта каждый оркестрант выходил в центр круга, бережно клал свой инструмент на землю, раздевался догола, после этого раздавался выстрел, человек падал мертвым. И его предсмертный стон сливался с мелодией “танго”... Один за другим уходят из жизни флейтисты, валторнисты, гобоисты. С каждым выстрелом все меньше оставалось... музыкантов, все тише становились звуки музыки, все слышнее были крики умиравших.
Последним из этого обреченного круга, в центре которого уже лежала гора инструментов, одежды и трупы музыкантов, был профессор Львовской консерватории, известный композитор и музыкант Штрикс...
Эсэсовцы весело смеялись, видя, как таяло живое кольцо музыкантов вокруг профессора, и еще громче гоготали, когда он остался один перед ними, продолжая в одиночестве исполнять “Танго смерти”.
- Господин профессор, ваша очередь, - ухмыляясь, произнес комендант. - Командование благодарит вас за музицирование, оно доставило нам истинное удовольствие.
Но гордый старик не опустил скрипку на землю. Он изящным жестом виртуоза поднял смычок и, припав щекой к инструменту, мощно заиграл, а потом и запел на немецком языке польскую песню “Вам завтра будет хуже, чем нам сегодня”. <...> Пуля оборвала его на полуслове [71, с. 70-71].
А. ПУШКИН:
...и новый Гайден меня восторгом дивно упоил [72, с. 393].
***
Мало ему было, городу Львову, затоптать могильное это место, прикрыть его казенными строениями.
Ворожбой луны на седых мостовых,
капризами кованых фонарей,
чернокаменным фасадом на рыночной площади,
торжеством купеческой усыпальницы,
и тенями алхимиков за узорчатыми стеклами старинной аптеки,
и подъездом, где за железными воротами в тусклом свете электричества квадратики плиток тоскуют по шинам карет,
и уютом кафе,
мощью соборов,
смутой женского взгляда -
чем только не напрягся город, лишь бы замести следы Яновского лагеря.
И - преуспел: заморочил аккордами барокко, опутал ренессансными изысками, повлек нас с тобой узкими улочками между глухих стен и навечно окованных дверей, загнал в конце концов в несуразный какой-то зал с наивным лепетом лепки, с яркой белизной сцены, где камерный оркестр, такой малочисленный, такой немудреный - и такой отдельный от алебастровой безвкусицы зала, от скрипа в партере, от заоконной тьмы, чреватой призраками лагерных смертей...
Над змеями грифов, над щетиной смычков простирается хрупкая старческая рука дирижера и с неожиданной силой вытягивает из струнных бесконечно длинные звуки, сплетает их в мягкий мотив, и в половодье мелодии растворяется уныние кресельных рядов, и восемнадцатый век блистает огнями гостиной, где лощеные кавалергарды замерли возле высоколобых красавиц в ажурных креслах. Пышные перья вееров, шелест кринолинов, вспархивание шепотков, таинство родинки в декольте, свечи над пюпитрами, белые чулки музыкантов, золото на камзолах, плавные взмахи капельмейстера...
Я скашиваю взгляд и вижу тонкую линию твоего носа и стремительные острия ресниц.
А музыка окутывает, обволакивает, и я - в боязни и надежде - жду, когда растает звук в этом зале, в той гостиной, и гости, шурша одеждами, сместятся из изящно изваянных поз в более свободные, регламентированные для светской куртуазной беседы, но мы ускользнем в дальний покой, где гобелен пылает наготой пастушки и ситцевые обои хранят оттенки вздохов, и в тумане сумрака сомкнем руки, и нарастающий блеск огромных твоих глаз, и бархатный шар груди... - а мелодия все еще выворачивает сердце.
Плечи, свечи, уютный альков... Ах, Амур, ты – охотник отменный! Но зачем же истомой альтов спекулировать столь откровенно? Эти звуки - надежный конвой: никуда нам не деться отныне...
Обернусь, поражусь: профиль твой нежен, как менуэт Боккерини...
***ФОБИЯ. Любовь
В. БОНЧ-БРУЕВИЧ (об инквизиторах):
...эти хранители святости... распаленные страстью холостых людей... находили удовлетворение своим бушующим разнузданным помыслам в жестокости, мучениях и крови тех, на кого легче всего было поднять руку: сектанты, ведьмы, колдуны, евреи... <...> ...в застенке рукою палача срывались одежды с красавиц-девушек, с женщин, полных сил и чистоты, и они, эти служители алтаря, упивались редким зрелищем обнаженных женских тел. ...в терзаниях... женщин и девушек находили они чудовищное удовлетворение своих страстей и сатанинской похоти [69, с. 165].
Б. ЛЕКАШ (украинские казаки, 1919 г.):
Бриля Брейерс, восемнадцати лет, - “вы не можете себе представить, какая она была красавица!” [очевидец] - ...изнасилована пятнадцать раз подряд.
- Знаете, я это видел собственными глазами! - говорит со стоном отец Брейерс, у которого во рту не осталось ни единого зуба.
Он немного сумасшедший, этот отец Брейерс! Прямо хохотать можно, когда он сюсюкает:
- Я это видел своими глазами! А в это время они мне выламывали зубы, один за одним [10, с. 131].