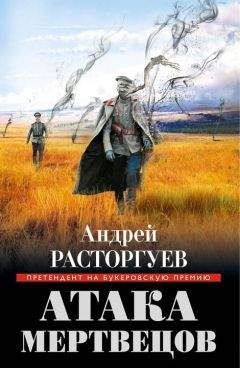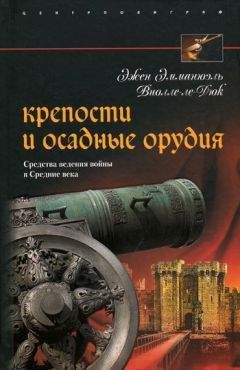Мария Фагиаш - Сестры-близнецы, или Суд чести
— И за покупками теперь нужно ездить в Берлин? Что, в Потсдаме нет магазинов? — И, после того как она только пожала плечами, продолжал: — Если ты действительно не будешь ужинать, скажи Анне. Она хотела убрать со стола. Если ты со мной не считаешься, прошу тебя не поступать так с прислугой. Вся разница в том, что они могут уволиться, а я — нет. Анна, конечно, не бог весть что, но чего еще ожидать, если жена и яйца сварить не может.
Она ошеломленно смотрела на него. Вообще-то он часто нервничал и был раздраженным, но так груб он еще не был никогда. Она позвонила Лотте, горничной, приказала ей приготовить постель и сказать Анне, что она больше сегодня не нужна.
Она забралась в постель, чувствуя себя совершенно разбитой, натянула одеяло до подбородка и попыталась заснуть. Но едва только ее голова коснулась подушки, как усталость улетучилась и о сне не могло быть и речи. Она пыталась понять, что за непреодолимая сила повлекла ее к мужчине, которого она не любила и не желала. Чем упорнее она об этом размышляла, тем больше она приходила в замешательство. Снова и снова перед ее глазами проходило все предшествующее тому, что произошло тем предвечерним часом. Никакого объяснения этому не находилось. Перед встречей в Опере она чувствовала к нему то, что можно чувствовать к пережившему такое несчастье зятю. Но когда она увидала эту расфуфыренную, висящую у него на руке девицу, ее охватил гнев, который вытеснил всякое сочувствие. На мгновение ей показалось, что она превратилась в свою сестру. То, что он эту персону привел на гала-концерт, носило скандальный характер и подорвало ее доверие к Николасу.
В высшей степени довольная, что она поставила эту выскочку на место, Алекса вернулась в свою ложу. Осознание же того, что произошло, пришло позже. Дома она вдруг вспомнила выражение ужаса на лице Николаса. Позже ей стало ясно, что оскорбление, которое она нанесла, было неоправданным, да и мотив к этому был сомнителен. Его короткий отказ от приглашения наполнил ее раскаянием и стыдом. Она так радовалась предстоящему балу, и в один миг все было испорчено. Она собралась было написать ему, но опасалась, что он проигнорирует ее письмо или ответит так, что она расстроится еще сильней. К тому же его письмо могло бы попасть в руки Ганса Гюнтера, что вызвало бы безрадостные осложнения. Как прусский офицер, обиду своей жены он мог рассматривать как собственное оскорбление и потребовать сатисфакции. Она припоминала многие дуэли, которые произошли по самым ничтожным поводам.
Идея пойти самой к Николасу и отдать ему письмо со своими извинениями не выходила у нее из головы несколько дней. Это было в среду, во второй половине дня. Ганс Гюнтер играл в бридж у одного из своих друзей, и она должна была коротать время или с новым романом Германа Гессе, или заняться вязанием. Роман производил на нее удручающее впечатление, а когда она при вязании несколько раз потеряла петли, терпение ее лопнуло. Она оделась и вышла из дома.
Поезд подошел как раз в тот момент, когда Алекса вышла на перрон, и она вошла в вагон. В Берлине дул такой пронизывающий ветер, что ни мех, ни закрытый экипаж от него не спасали. По дороге к Бургштрассе она продрогла насквозь.
Когда Николас только положил руку ей на плечо, она почувствовала убежище от всех холодов на свете. Вначале она испытала благодарность, но вдруг ее охватило неосознанное, непреодолимое, отчаянное желание прижаться к нему. Она почувствовала его прикосновение, как факел, который, как ей показалось, должен был зажечь ее тело, и она вмиг запылала. Она почувствовала больше чем наслаждение, это было похоже скорее на боль, после облегчения от которой кричат. Она припоминала, что целовала его, обвивалась вокруг него, предлагала себя. Они любили друг друга там, где их застала буря, и он отвечал на ее любовь с такой страстью, что она полностью потеряла себя.
Когда Алекса вдруг осознала, что отдалась мужчине, который не был ее мужем, что она изменила ему, ее охватило отвращение к самой себе. Не было никаких смягчающих обстоятельств, никакого оправдания, потому что все было делом ее рук. И тот факт, что она в его постели испытала большее наслаждение, чем когда-либо за время ее трехлетнего замужества, еще больше усиливало чувство вины.
Считалось, что их брак с Гансом Гюнтером на редкость удачен, и временами Алексе самой это так и казалось. Ганс Гюнтер был деликатен, предупредителен и, без сомнения, ей верен. Временами, правда, у него портилось настроение, он придирался к ней и доставлял мелкие обиды. Наверное, это делалось неумышленно, и она заставляла себя просто забывать о таких вещах. В конце концов, кроме него у нее никого на всем белом свете не было, это была ее семья, и он любил ее. Так должно и продолжаться, думала Алекса, и она не может позволить себе просто так это разрушить.
Она часто спрашивала себя, как живут в других семьях. Они с Гансом Гюнтером вращались только в офицерском кругу. У него было множество друзей, ее отношения с дамами были дружескими, но не выходящими за рамки формальных. У нее не было никого, с кем она могла бы посоветоваться или попросить о помощи.
Что представляют из себя другие мужчины? Как быстро происходит охлаждение страсти молодых супругов? Был ли Ганс Гюнтер исключением, или все мужья были такими же? Жаждали ли и другие жены физической близости так, как она?
Больше всего ее удручало то, что, как ей казалось, Ганс Гюнтер в постели вел себя так, как будто выполнял некий долг. Такое поведение вынуждало ее брать на себя активную роль, что, в зависимости от настроения, или льстило ему, или раздражало. Но даже если он и участвовал в игре, она очень редко получала удовлетворение. Он отворачивался от нее и быстро засыпал, в то время как она еще долго не могла сомкнуть глаз, сгорая неутолимым огнем от неудовлетворенной страсти.
Днем было не намного легче, чем ночью. Ганс Гюнтер ожидал, что Алекса будет играть роль образцовой хозяйки, но для этого она, казалось ей, была еще слишком молода. Она любила вкусно поесть, но готова была лучше голодать, чем заниматься кухней. Любовь к порядку также не входила в число ее добродетелей. В спальне были разбросаны кругом книги и журналы, начатое рукоделье, детали туалета, кожура от фруктов, коробки от конфет. Ганс Гюнтер терпеть не мог беспорядка, и перед его возвращением она лихорадочно все прибирала.
И ее обращение с прислугой он не одобрял. Она наняла Анну и Лотту, кухарку и горничную, тронутая их душераздирающими историями, но, почувствовав себя в доме уверенно, вместо благодарности они старались не перетруждать себя и, вероятно, еще и подворовывали.
Алекса иногда спрашивала себя, любит ли ее еще Ганс Гюнтер. Тяжелее всего она переносила дни, когда, казалось, он ее вообще не замечает. Если в это время она вдруг заговаривала с ним, на лице его появлялось удивленное выражение, как если бы он неожиданно встретил знакомого. Он автоматически улыбался, односложно отвечал и вновь погружался в свое уединение. Физически он был рядом, но душа его была где-то очень далеко. Мирные семейные ужины проходили в тягостном молчании. Чем дальше он от нее держался, тем больше хотелось ей услышать от него ласковое слово, получить поцелуй или объятие. Он обладал огромной властью над ней, такой же огромной притягательной силой, какой обладают горные вершины над альпинистами. Она должна завоевать его, неважно какой ценой. Завоевать или погибнуть.
Алекса слышала, как он встал в столовой и проверил, закрыта ли входная дверь. Затем погасил свет в прихожей, как он делал всегда перед тем, как пойти спать. После того как он почистил в ванной зубы, что сопровождалось шумом воды из крана, он вошел в спальню.
Вытянувшись на спине со сложенными на груди руками, она сделала вид, что спит.
С точностью автомата он, как это было всегда, совершил обряд раздевания: мундир — на спинку стула брюки — на вешалку, сапоги — перед дверью (утром Тадеус, денщик, должен их почистить). От него пахло смесью табака, мужского пота и одеколона. Ганс Гюнтер любил туалетную воду, в его походной аптечке всегда был припрятан крошечный флакончик. Она лежала с закрытыми глазами, хотя знала, что он, прежде чем облачиться в длинную ночную сорочку, внимательно разглядывает свое идеально сложенное тело во вставленном в серебряную раму огромном, величиной с дверь, зеркале.
Он включил свою прикроватную лампу, обошел вокруг кровати и запечатлел на ее лбу поцелуй. Этот ритуал он не забывал никогда, неважно, спала она уже или нет. В начале их супружества она с радостью реагировала на это, обнимая его и пытаясь привлечь к себе. Чаще всего он мягко освобождался и укрывался в безопасном месте своей половины кровати. Спустя какое-то время она примирилась с этим пустым жестом, который был так же сексуален, как чистка зубов или закрывание двери.
Она слышала, как он улегся и выключил свет. Спустя минуту он уже крепко спал. Алекса слушала его равномерное дыхание и чувствовала, как подступают слезы. Она расплакалась. Это несколько утешило ее, в этом она видела доказательство своего раскаяния. Твердо решив больше никогда не видеть Николаса, она припомнила проповедь пастора Штернварта из гарнизонной кирхи, в которой он живописал ужасы, на которые обречены грешники в потустороннем мире. И все же ей не так легко было искренне раскаяться, потому что муж, честь которого она оскорбила, был к ней так равнодушен.