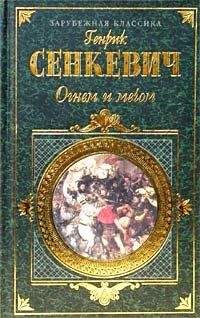Генрик Сенкевич - Огнем и мечом. Часть 1
От рыбаков наместник узнал, что низовые, рыбачившие тут, уже несколько дней как покинули остров и подались по призыву кошевого атамана на Низовье. Кроме того, во всякую ночь с острова видны были костры, которые жгли в степи спешившие на Сечь беглые. Рыбакам было известно, что готовится поход «на ляхiв», и они это вовсе не скрывали от наместника. Скшетуский поневоле подумал, что его экспедиция и в самом деле, кажется, запоздала, и похоже, прежде чем доберется он до Сечи, полки молодцев двинутся на север; однако ему велено было ехать, и, как исправный солдат, он не рассуждал, намереваясь достичь хоть бы и самое сердце запорожского стана.
Назавтра с утра отправились дальше. Миновали чудный Тарентский Рог, Сухую Гору и Конский Острог, известный своими трясинами и множеством гадов, каковые его непригодным для житья делали. Здесь уже все: и дикость округи, и торопливость течения — предвещало близость порогов. Но вот на горизонте завиднелась Кудацкая башня. Первый этап путешествия был закончен.
Однако в тот вечер наместник в замок не попал, ибо у пана Гродзицкого после объявления перед закатом вечернего пароля из замка никто не выпускался и в замок никого не пускали; пусть бы хоть сам король приехал, ему пришлось бы ночевать в Слободке, расположенной перед валом.
Именно так поступил и наместник. Ночлег был не очень-то удобный, потому что мазанки в Слободке, которых насчитывалось около шестидесяти, были такие крошечные, что в некоторые приходилось вползать на четвереньках. Других строить не стоило: крепость при каждом татарском набеге сжигала строения дотла, чтобы не создавать нападающим прикрытия и безопасных подступов к валам. Проживали в этой Слободке люди «захожи», то есть приблудившиеся из Польши, Руси, Крыма и Валахии. Каждый тут верил в своего бога, но до этого никому не было дела. Землю пришлые люди не пахали из-за опасности от Орды, кормились рыбой и привозным с Украины хлебом, пили просяную палянку, занимались ремеслами, за что их в замке очень ценили.
Наместник глаз не сомкнул из-за невыносимого смрада конских шкур, из которых в Слободке выделывали ремни. На зорьке следующего дня, едва прозвонили и протрубили побудку, он сообщил в замок, что прибыл в качестве княжеского посла и просит его принять. Гродзицкий, у которого еще был свеж в памяти визит князя, вышел навстречу собственной персоной. Был это пятидесятилетний человек, одноглазый, точно циклоп, угрюмый, ибо, сидя в глухомани на краю света и не видя людей, одичал, а обладая безграничной властью, исполнился суровости и чувства собственного достоинства. Лицо его было обезображено оспой, а также изукрашено сабельными шрамами и метинами от татарских стрел, белевшими на темной коже. Однако служака он был верный, сторожкий, точно журавль, и глаз с татар и казаков не спускал. Пил он только воду, спал не более семи часов, часто вскакивая среди ночи проверить, не дремлет ли стража на валах, и за малейший проступок незамедлительно казнил провинившихся. К казакам доброжелательный, хоть и грозный, он завоевал их уважение. Когда случался зимой на Сечи голод, Гродзицкий помогал хлебом. В общем, был это русин покроя тех, кто некогда с Пшецлавом Ланцкоронским и Самеком Зборовским в степи хаживали.
— Выходит, ты, сударь, на Сечь едешь? — спросил он Скшетуского, предварительно проведя его в замок и от души угостив.
— На Сечь. Какие, ваша милость комендант, у тебя оттуда новости?
— Война! Кошевой атаман со всех луговин, речек и островов людей созывает. С Украины беглые тянутся, которым я мешаю, как могу. Войска там собралось тысяч тридцать, а может, и поболе. Когда же они на Украину двинутся и к ним городовые казаки с чернью присоединятся, будет их сто тысяч.
— А Хмельницкий?
— Со дня на день из Крыма с татарами ожидается. Может, уже прибыл. Сказать по совести, зря ты, сударь, на Сечь желаешь ехать, ибо вскорости тут их дождешься. Кудак они не минуют и в тылу его не оставят, это точно.
— А ты отобьешься, ваша милость?
Гродзицкий угрюмо глянул на гостя и ответил отчетливо и спокойно:
— А я не отобьюсь…
— Это как же?
— Пороху у меня нету. Челнов двадцать послал, чтобы мне хоть сколько прислали, — и не шлют. Не знаю — перехвачены ли посланные или у самих там нехватка; знаю только, что до сих пор не прислали. А моего хватит недели на две — и все. Будь у меня сколько надо, я бы скорее Кудак и самого себя взорвал, но казацкая нога сюда бы не ступила. Велено мне тут сидеть — сижу, велено держать ухо востро — держу, сказано зубы показывать — показываю, а если сгинуть придется — раз мати родила — и на это готов.
— А сам ты, ваша милость, не можешь пороху приготовить?
— Считай, уже два месяца запорожцы селитру ко мне не пропускают, а ее с Черного моря возить нужно. Все к одному. Что ж, и погибну!
— Нам с вас, старых солдат, пример бы брать. А если б тебе самому, ваша милость, за порохом двинуться?
— Любезный сударь, я Кудак оставить не могу и не оставлю; здесь была моя жизнь, здесь и смерть моя будет. Да и ты, сударь, не рассчитывай, что на брашна и обильные пиры едешь, каковыми обычно послов принимают, или же что тебя там неприкосновенность посольская убережет. Они даже собственных атаманов убивают, и, пока я тут, не упомню, чтобы хоть кто из атаманов своей смертью умер. Погибнешь и ты.
Скшетуский молчал.
— Вижу я, дух в тебе слабнет. Так что лучше не езди.
— Досточтимый комендант! — с гневом ответил наместник. — Придумай же что-нибудь пострашнее меня запугать, ведь то, что ты говоришь, слышал я уже раз десять, а коли ты не советуешь мне ехать, я понимаю это так, что сам ты на моем месте не поехал бы; рассуди же в таком случае, пороху ли тебе только или еще отваги для обороны Кудака недостает.
Гродзицкий, вместо того чтобы осерчать, глянул на наместника благосклоннее.
— Зубастая щука! — буркнул он по-русински. — Извиняй, ваша милость.
По ответу твоему вижу я, что не уронишь ты dignitatem[52] княжеского и шляхетской чести. Дам я тебе посему пару чаек, ибо на байдаках пороги не пройдешь.
— Об этом и я тоже намеревался просить вашу милость.
— Мимо Ненасытца вели их тащить волоком; хоть вода и высокая, но там никогда проплыть невозможно. Разве что какая-нибудь махонькая лодчонка проскочит. А когда окажешься на низкой воде, будь настороже и помни, что железо со свинцом красноречивее слов. Там уважают только смелых людей. Чайки назавтра будут готовы; я лишь велю на каждой второе кормило поставить — одним на порогах не обойдешься.
Сказав это, Гродзицкий вывел наместника из жилья, чтобы познакомить его с замком и внутренней службой. Везде соблюдался образцовый порядок и послушание. Часовые чуть ли не вплотную друг к другу день и ночь караулили на валах, непрерывно укрепляемых и подправляемых пленными татарами.
— Каждый год на локоть валы подсыпаю, — сказал Гродзицкий, — и они уже столь высоки, что, имей я довольно пороху, сто тысяч мне ничего не сделают, но без пальбы я не продержусь, если штурмовать будут.
Фортеция действительно была неодолима: кроме пушек, ее защищали днепровские кручи и неприступные скалы, отвесно уходящие в воду; ей даже большой гарнизон был не нужен. В замке и насчитывалось не более шестисот человек, но зато солдат отборнейших, вооруженных мушкетами и пищалями. Днепр, протекая в том месте стиснутым руслом, был столь узок, что стрела, пущенная с вала, улетала далеко на другой берег. Замковые пушки господствовали над обоими берегами и над всею окрестностью. Кроме того, в полумиле от крепости стояла высокая башня, с коей на восемь миль вокруг было видно, а в ней находилась сотня солдат, которых Гродзицкий всякий день навещал. Они-то, заметив что-нибудь в округе, тотчас давали знать в замок, и тогда в крепости били в колокола, а весь гарнизон вставал в ружье.
— Недели не проходит, — рассказывал пан Гродзицкий, — без тревоги, потому что татары, как волки, стаями по нескольку тысяч тут слоняются; мы же их из пушек бьем, как умеем, а иногда табуны диких лошадей дозорные за татар принимают.
— И не осточертело вашей милости сидеть в такой глухомани? — спросил Скшетуский.
— Дай мне место в покоях королевских, не променял бы. Я отсюда поболе вижу, чем король из окошка своего в Варшаве.
И действительно, с вала открывался необозримый степной простор, казавшийся сейчас сплошным морем зелени; на севере — устье Самары, на юге
— весь путь днепровский: скалы, обрывы, леса, — вплоть до кипени второго порога, Сурского.
Под вечер побывали еще и в башне, ибо Скшетуский, впервые навестив эту затерянную в степях фортецию, всем интересовался. Между тем в Слободке готовились для него чайки, оборудованные с носа вторым кормилом для лучшей управляемости. Назавтра с утра наместнику предстояло отплыть. В течение ночи, однако, он почти не ложился, обдумывая, как надлежит поступить в предвидении неминуемой гибели, которою грозило посольство в страшную Сечь. Хотя жизнь и улыбалась ему, ведь был он влюблен и молод, а жить ему предстояло с любимой, все равно ради жизни он не мог поступиться честью и достоинством. Еще подумал он, что вот-вот начнется война, что Елена, ожидая его в Разлогах, может оказаться в сердце чудовищного пожара, беззащитная против домогательств не только Богуна, но и разгулявшегося озверелого сброда, и мучительная тревога за нее терзала ему сердце. Степь, верно, уже подсохла, уже наверняка можно было из Разлогов двинуться в Лубны, а он сам же наказал Елене и княгине ждать своего возвращения, не предполагая, что гроза разгуляется так скоро, не зная, чем грозит ему поездка на Сечь. Вот и ходил он теперь туда-назад по замковой комнате, тер подбородок и ломал руки. Что предпринять? Как поступить? Мысленно уже видел он Разлоги в огне, окруженные воющей чернью, более на бесов, чем на людей, похожею. Собственные его шаги отдавались угрюмым эхом под сводами, а ему казалось, что это злобные силы идут за Еленой. На валах протрубили гасить огни, а ему мерещилось, что это отголоски Богунова рога, и скрежетал он зубами и за рукоять сабли хватался. Ах, зачем напросился он в эту поездку и Быховца от нее избавил!