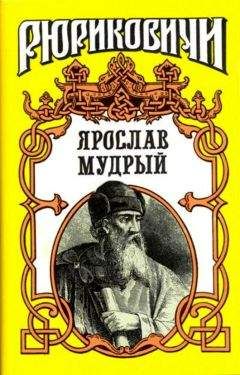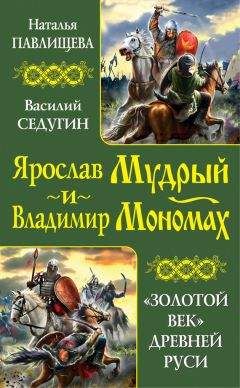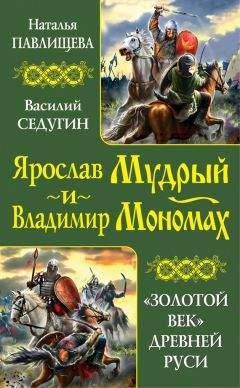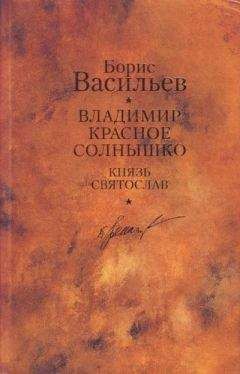Еремей Парнов - Заговор против маршалов
Площадь Пилсудского не то место, чтобы предаваться долгим мечтаниям, а Варшава не тот город.
Печатая шаг, сменяется караул у могилы Неизвестного солдата, подъезжают штабные машины. Золотоволосая красавица, стуча каблучками, перебегает дорогу перед самым радиатором с красно-белым флажком.
Бойко идет торговля булочками с горячей грибной начинкой у решеток парка на Граничной, перетаскивают чемоданы гостиничные мальчики. Под гром барабанов марширует отряд харцеров.
Иероним Петрович Уборевич сел в новенький «берлие» заместителя начальника генерального штаба. Военный атташе на мгновение заколебался, но быстро нашелся и пригласил в свой «рено» багроволицего военного, отмеченного звездой высокого ордена «Белого Орла». Разделяться, пусть и на считанные минуты, было не слишком желательно, но приходилось считаться с протоколом и субординацией. В Польше таким вещам придавалось подчеркнутое значение. Особенно ныне, когда страной фактически управляло военное командование. Визит Уборевича выходил, таким образом, за рамки армейских контактов.
К площади подъехали со стороны Каровой. Встречавший кортеж подполковник распахнул дверцу и вскинул два пальца под окантованный козырек.
— Проше, пан генерал!
— Похоже, зима перешла в контратаку? — заметил Уборевич и с наслаждением втянул морозную свежесть.— Превосходное утро!
Поляки охотно пустились в рассуждения о причудах погоды, туманно намекая на капризы политики.
Озябшие репортеры в темпе схватили несколько общих кадров и, раздавшись в стороны, пропустили молодцевато взбежавших по лестнице военных. Каждому хотелось обязательно заснять Уборевича, но его постоянно заслоняла чья-нибудь украшенная позументом конфедератка. Больше всех повезло Тодеку Зегальскому из «Курьера Варшавского», догадавшемуся расставить деревянный треножник справа от входа. Он сделал портрет в полный рост: развевающиеся полы шинели, сабля на боку, портупея. Немного подпортило солнце, колюче вспыхнувшее на стеклах пенсне. На счастье, в самый последний момент хозяева вежливо приотстали, посторонился и адъютант с серебряным аксельбантом, потянув на себя дубовую дверь. Вот и удалось запечатлеть большевистского генерала.
— Ца-ца-ца! Какой субтильный пан,— поцокал языком Тодек.— И какой моложавый! — он покосился на топтавшегося рядом круглолицего здоровяка в клетчатой кепке с наушниками.
Тот, однако, никак не отреагировал. Молча, словно не к нему обращался коллега, спрятал в карман «минокс» — камеру-лилипут латвийского производства, и заковылял вниз по ступеням.
Не иначе, из «двуйки», определил наметанным глазом Тодек, знавший всех журналистов Варшавы. Господа из второго бюро тоже порядочно ему примелькались. Например, подполковник Броневский, который вошел последним. Но этого, в кепке, Зегальский определенно видел впервые. Такие лица запоминаются, особенно глаза: голубенькие, как у младенца, но словно бы тронутые сладковатой гнильцой. И вообще кто из приличных людей захочет работать с «миноксом»? Даже «двуйка» не станет мелочиться на финтифлюшках.
Тодек собрал штатив и прямиком направился на Маршалковскую, к трамваю.
На другой день типчик в клетчатой кепке снова попался ему на Уяздовских аллеях, возле многоэтажного здания генеральной инспекции. Как последний идиот, он сидел на обледенелой скамейке, закусив погасшую папиросу. Зегальский прошел мимо, отвернув на всякий случай лицо. Если пан Уборевич находится в инспекции, рассудил он, то все становится на свои места: шпик. «Жди, голубчик, пока не примерзнет зад»,— позлорадствовал Тодек. Лично его российский генерал уже не заботил. Дело сделано: «Курьер Варшавский» поместил портрет на первой странице. Жаль, что обрезали по пояс — пропала сабля. Зато превосходно смотрелись диковинные петлицы с четырьмя ромбами и звездой. И пенсне нисколько не бликовало.
Тодек не знал, что так поразивший его своей моложавостью военачальник в двадцать два уже командовал армией. Он вообще мало интересовался историческими подробностями. Его пределом был фоторепортаж.
Заскочив пообедать в «Бристоль», он опять наткнулся на кругломордого с глазами, похожими на подгнившие сливы. Третий раз за неполных два дня!
На возвышении в вестибюле, где в дневные часы накрывали столики, отыскалось свободное место, откуда можно было понаблюдать за странным субъектом, которого так настойчиво подсовывала судьба. Из чистого суеверия Тодек решил поплыть по течению. Авось что- нибудь и перепадет!
Напротив голубоглазого филера сидел, небрежно прикрыв салфеткой белый фуляровый галстук, седой вальяжный мужчина. Ковыряя вилкой недоеденный бризоль, он время от времени поднимал рюмку, но, едва пригубив, отставлял в сторону. Голубоглазый же и пил, и ел с надлежащим усердием, то и дело наливая себе до самого краешка. Вилку он, конечно, держал в правой руке, а левой неустанно запихивал в рот куски хлеба. Лохмы тушеной капусты то и дело слетали на лацканы кургузого пиджачка. Седой всякий раз морщился и отстранялся. На пирующих закадычных друзей это нисколько не походило. В общем, странная пара: барин и хам. О чем они вели разговор, Тодеку оставалось только догадываться. Сколько ни вслушивался в слитный рокот, ни единого слова не уловил. Кто-то поминутно входил и выходил в вертящуюся дверь, звякала посуда, раздавались восклицания, смех. Тут и рядом ничего не услышишь, а Тодек устроился в дальнем углу. Видеть, как жрет, постепенно наливаясь кровью, неопрятный бурбон, стало совсем невтерпеж: того и гляди аппетит испортишь.
— Как всегда, пан Зегальский? — над ним склонился знакомый официант.
— Принесите шницель и рюмку рябиновой,— попросил Тодек. Капустный узор на лацканах напротив отбивал охоту до прежде любимого бигоса.— Вы случайно не знаете, кто эти двое? — он деликатно повел бровью.
— Как не знать! Пан Смал-Штокий, он у нас часто бывает. А вот кто с ним, прошу прощения, понятия не имею. Тоже из украинцев, надо полагать.
Тодек равнодушно кивнул. Где-то он слыхал это имя, но оно почти ничего не говорило ему. Впрочем, отчего не спросить? Журналисту простительно.
— Это какой же Смал-Штокий?..
— Тот самый, пан может не сомневаться.— Официант склонился еще ниже и зашептал в самое ухо: — Посланник Центральной рады в Берлине. В Киев он так и не вернулся, прямиком переехал в Варшаву. Имеет особняк и приличные деньги. Откуда? Положительно сказать не могу.
Тодек заказал еще рюмочку и пирожное с кремом к черному кофе. Он пока не решил, как поведет себя, однако кое-какие мыслишки уже наклевывались. Директория, Украинская народная республика, Центральная рада были для него понятиями довольно абстрактного свойства. Зато о конспиративной деятельности националистов газеты писали регулярно. Каждый поляк знал, что «двуйка» не спускает с них глаз. Поговаривали и об особом интересе гестапо. Горячие споры на подобные темы постоянно затевались в журналистском клубе. Таинственные похищения, неразгаданные убийства, даже какие-то взрывы во Львове — все это как-то связывалось с деятельностью жовто-блакитных боевиков-экстремистов. В погребках, где Зегальский был своим человеком, украинцев, мягко говоря, недолюбливали. Не меньше, чем евреев и немцев. Впрочем, о немецком вопросе толковалось под сурдинку, особенно на трезвую голову. Военная цензура вымарывала любое упоминание о гестаповской агентуре. Осведомленные люди полагали, что неспроста. Слежка наверняка ведется, и бдительная, но остальное покрыто мраком. Никто не смел сказать наверняка об аресте хоть одного германского шпиона. И дураку ясно, что правительство боится раздразнить опасных соседей.
И эта постыдная нерешительность росла прямо пропорционально наглости их фюрера. Тодек верил в мощь польского войска, но критически относился к политике умиротворения. Сопоставив свои приблизительные догадки с поведением «Голубоглазого», он заподозрил немецкий шпионаж, если не хуже — покушение. В кармане с «миноксом» вполне мог оказаться револьвер или, допустим, граната. Акция возле генеральной инспекции, очевидно, не удалась, и вот незадачливый агент вынужден держать ответ перед начальником.
Тодек не спросил себя, зачем понадобилось обставлять малоприятное, надо полагать, объяснение явно неподобающими аксессуарами, вроде графина житной. Да еще на виду всей Варшавы, в отеле «Бристоль». Готовое клише пришлось точно по месту: «Хлопы и пьяницы». И все, и других объяснений не требуется. Недорого стоит патриотизм, взращенный на лозунгах и бульварных романах. Подогретый третьей порцией рябиновки, он толкал к действию. В голове уже рисовался сенсационный заголовок. «Репортер разоблачает» или нечто подобное...